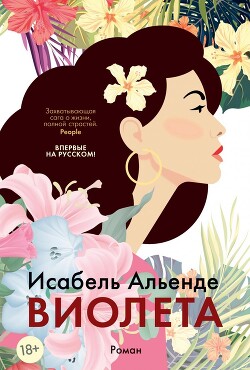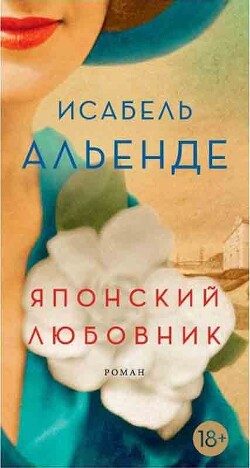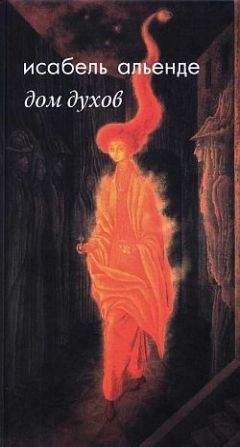У меня в животе снова шевелились щупальца страха, как случалось всегда, когда я проводила время с Хулианом; а еще я спрашивала себя, какого черта торчу в Майами.
Летом на нас обрушился один из тех ураганов, которые все переворачивают с ног на голову. Дом стоял на холме, и волны нам не грозили; мы ограничились тем, что заперли окна и двери от ветра. Это было потрясающе; преимущество урагана перед землетрясением в том, что о нем узнаёшь заранее. На дом обрушились ветер и вода, несколько пальм вырвало с корнем, унесло все, что не было привязано. Когда буря стихла, чей-то стол для пинг-понга, самостоятельно проделав путь в полкилометра, плавал в нашем бассейне, а на террасе второго этажа мы обнаружили испуганную собачку: бедное животное принесло ветром.
Два дня спустя, когда земля подсохла, Хулиан заметил, что септик переполнился, и пришел в бешенство. Мастера он решил не вызывать, полез в него сам, надев перчатки и резиновые сапоги и бранясь на чем свет стоит, и в итоге оказался по колено в отвратительной жиже. Вскоре я поняла, почему он не захотел приглашать мастера. Из ямы он выудил испачканный пакет, принес на кухню и высыпал его содержимое на пол: это были пачки мокрых, перемазанных нечистотами банкнот.
Меня чуть не вырвало, когда я увидела, как Хулиан запихивает деньги в стиральную машину.
— Ты что, с ума сошел? — в истерике закричала я.
Должно быть, он догадался, что вот-вот прольется кровь, потому что я без раздумий схватила самый большой кухонный нож.
— О’кей, Виолета! Успокойся! — кажется, впервые в жизни Хулиан испугался.
Он набрал чей-то номер, и вскоре в нашем распоряжении были двое бандюганов-мафиози. Мы вместе отправились в прачечную, бандюганы сунули по десятидолларовой купюре трем тетушкам, которые стирали белье для своих семей, выставили их вон, приказав подождать снаружи, и встали у двери, чтобы посторожить, пока Хулиан стирает вымазанные дерьмом банкноты. Затем их пришлось высушить и сложить в пакет. Он взял с собой меня, потому что понятия не имел, как управлять стиральной машиной.
— Теперь я понимаю, что такое отмывание денет, — заметила я.
Этого мне хватило, чтобы раз и навсегда понять, что лучше быть любовницей Хулиана, чем его женой. На следующий день я вернулась в Сакраменто.
Я специально откладывала подробный рассказ о Нье-вес, потому что это очень болезненная тема, Камило. Возможно, я несправедливо обвиняла Хулиана в судьбе моей дочери. На самом деле каждый несет ответственность за свою жизнь. При рождении нам выпадают определенные карты, и мы играем свою партию; некоторым достается всякая дребедень, и они проигрывают, но другие играют теми же картами и почему-то выигрывают. Карта определяет, что мы собой представляем: дата рождения, пол, раса, семья, национальность и т. д., этого мы изменить не можем — можем разве что использовать толково. В этой игре имеются препятствия и шансы, стратегии и ловушки. Ньевес выпали счастливые карты: у нее были ум, отвага, щедрость, обаяние, пленительный голос и красота. Я любила ее всей душой, как все матери любят своих детей, но моя любовь не могла сравниться с обожанием ее папочки. Ньевес была единственным существом в этом мире, которое Хулиан любил больше самого себя.
Говорят, в раннем детстве девочки влюбляются в своих отцов, — если не ошибаюсь, это называется «комплекс Электры» и со временем он исчезает. Но иногда случается наоборот — отцы влюбляются в дочерей, и тогда их чувства спутываются, как клубок ниток в кошачьих лапах. Нечто подобное произошло между Ньевес и Хулианом. Он был одержим нашей девочкой, обнаружив в ней качества, которыми он восхищался и которые напрочь отсутствовали у сына; она была похожа на самого Хулиана, она унаследовала от него не только кровь, но и дух, в отличие от Хуана Мартина, которого Хулиан считал слабаком и девчонкой. Его сын не мог тягаться со своей сестрой, и наступил день, когда он прекратил всякие попытки с ней состязаться и занял скромный уголок в ее тени. Он прятался так старательно, что отец практически забыл о его существовании.
Однажды возле бассейна я увидела, как Хулиан натирает Ньевес кремом от загара, — он делал это и раньше множество раз, однако что-то меня встревожило, и я предложила сделать это самой.
— У папы получается лучше, — усмехнулась Ньевес.
Позже я осмелилась поговорить об этом с Хулианом, и в ответ он отвесил мне пощечину. Он давно не бил меня, к тому же ни разу не бил по лицу. Он обвинил меня в том, что я грязная гарпия, готовая все изгадить своими подозрениями, ревностью и завистью, которые он терпел годами, но не собирается мириться и дальше, потому что я разрушаю невинность Ньевес своими подлыми намеками.
В тот год, пока я жила с Хулианом в безобразном розовом торте в компании бандитов, заговорщиков и шпионов, Ньевес теоретически жила с нами, но на самом деле я видела ее очень мало. По ее словам, поместье находилось слишком далеко от центра города, и она часто оставалась ночевать у подруг. Так, по крайней мере, она утверждала. Иногда я обнаруживала ее в шезлонге у бассейна — она пила пина-коладу, отдыхая после очередной гулянки. Случалось, по ночам она была в таком состоянии от алкоголя и, возможно, наркотиков, что не могла вести машину и, если не находила никого, кто бы отвез ее домой, звонила Хулиану, чтобы он за ней заехал. Он снимал ей похмелье с помощью кокаина, который всегда держал под рукой, считая столь же безобидным, как табак.
Моя дочь пела в кабаре и казино, которые наверняка контролировались мафией. Хулиан несколько раз водил меня ее послушать. Я и сейчас вижу ее такой, какой она была на сцене, — маленькой девочкой, накрашенной, как куртизанка, в облегающем платье, усыпанном блестками и искусственными бриллиантами, ласкающей микрофон и обволакивающей публику хриплым, чувственным голосом. Ее отец аплодировал громче всех и осыпал ее комплиментами, как и другие мужчины в зале, а я корчилась от спазмов в животе, моля небеса, чтобы шоу поскорее закончилось.
Два года спустя какой-то тип «обнаружил» Ньевес в одной из таких забегаловок и в одночасье уволок в Лас-Вегас, пообещав вечную любовь и успех у публики. Его звали Джо Санторо, и представился он агентом, но был всего лишь мелким актеришкой, одним из молодых смазливых проходимцев, бездарных и бессовестных, которые всюду кишмя кишат. Ньевес собрала вещи и потихоньку ушла, ничего не сказав отцу. Два дня спустя, когда Хулиан уже обратился в полицию, чтобы ее отыскать, она позвонила ему из Лас-Вегаса. Хулиан помчался за ней, обезумев от ярости и ревности. В этом городе у него имелись связи, он ездил туда по делам клиентов и отвозил свои черные портфели. План состоял в том, чтобы нанять головореза, который прострелил бы Санторо коленки и привел девочку за ухо к папе под крылышко.
Он нашел Ньевес в обшарпанном доме, где Джо Санторо проживал с толпой хиппи и случайных бродяг, которые проводили там несколько ночей и исчезали, оставив после себя мусор и беспорядок. Моя дочь возлежала со своим молодым возлюбленным на засаленном матрасе прямо на полу, кругом валялась одежда, банки из-под пива и остатки окаменевшей пиццы. Оба витали в иных измерениях под действием смеси ЛСД и марихуаны, но у Ньевес хватило рассудка, чтобы угадать цель своего отца. Полуголая, растрепанная, с поплывшим макияжем, она стояла перед наемным гангстером, вцепившись обеими руками в его револьвер, и поклялась отцу всем на свете, что, если они прикоснутся к Джо, он больше никогда не увидит ее в своей козлиной жизни, потому что она покончит с собой.
Только дочь могла нанести Хулиану удар, который подорвал бы его титаническую силу. Ньевес покинула его с решимостью человека, бегущего от смертельной опасности. Думаю, она на клеточном уровне чувствовала то, чего не мог постичь ее разум: она должна бежать от отцовской любви, от своей собственной привязанности и зависимости. Она разрезала узы одним щелчком ножниц, отказавшись вернуться с Хулианом в Майами или принять от него какую-либо помощь.
Гнев, который овладел Хулианом по прибытии в Лас-Вегас, сменился отчаянием — он видел, что Ньевес воспринимает его как врага. Он пообещал ей все, что она пожелает, заверил, что исполнит любую прихоть, что готов содержать в приличных условиях ее, Джо Санторо или любого другого негодяя, которого она выберет, потому что его дочь не может жить в свинарнике; он умолял ее, унижался, плакал, но ничто не тронуло сердца Ньевес. Тогда он понял, что она в точности подобна ему самому, — неукротимая, отчаянная, она делает все, что взбредет в голову, никого не принимая в расчет. Ньевес сеяла на своем пути несчастье с таким же безразличием, как и он сам. Его дочь была зеркалом, в котором отныне он любовался собственным отражением.