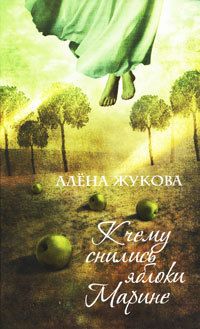Проснулась опять, уже третий раз за ночь. Что-то разладилось в голове. В момент пробуждения кажется, что и не спала вовсе. Опять за окном моросит, жалобно поскуливает ветер в проводах и в душе. Стоп, во сне опять Дашу искала. Надо снова попробовать дозвониться в ее мичиганскую общагу. Сессия ведь уже закончилась, могла бы и позвонить. Паршивка, звонит только по праздникам и по необходимости, а просто так, как же, дождешься. Наверняка опять любовный кризис. Это ничего, это хорошо, несмертельно, а для творчества – самый раз. Последняя серия фотографий была просто удивительной. Итальянец, конечно, модель хорошая, выразительная, но что с этой моделью по жизни делать будешь? Разве что в постельных целях. Так ведь капризничает и мучает. Но Дарья, слава богу, не в маму. Никаких жертв, терпения, зависимости, но и привязанности тоже. Запросто может исчезнуть надолго, забыть позвонить, поздравить. Может находиться в часе лету от Москвы, но не долететь, а вместо этого оказаться в Австралии. Мальчишки – они другие. Установили очередность и давай по кругу звонить, уже даже некое расписание прочитывается. В выходные отзваниваются по старшинству – сначала Санька из Сант-Хозе, потом Лешка из Торонто, потом их жены, потом внуки. Обещали собраться на пятилетие со дня смерти отца, то есть в этом ноябре. Младшие еще не видели Москвы, интересно, понравится ли? После гибели Бори в автокатастрофе никто не хотел верить, что это Судьба заказала его пьяному дальнобойщику, а не спецслужбы или какие-то бандиты. Она сама долгое время была уверена, что Бориса убрали политические противники, но следствие доказало трагическую случайность, в которую поверили все, кроме ее детей. Они уговаривали уехать из России, но она отказалась. Никому не говорила, что есть еще одна причина, кроме Бориной могилы. Она пыталась разыскать Андрея, не для чего-то, просто снится он ей часто. Уже два года как ищет, но безрезультатно. Одна тетка в архиве сказала, что не там ищет, что все умные евреи уже давно уехали, скорее всего Андрей тоже. Она чувствует, что они обязательно встретятся, что мир тесен. И чем дальше, тем больше сужается, так ей, по крайней мере, кажется. Возможно, это теперь касается ее собственного узенького мира, состоящего из четырех стен, книг, телевизора, телефона. Все труднее передвигаться. Сердце ухает филином в груди, давление, одышка. Надо гнать плохие мысли, перестать мусолить в голове свои и чужие беды. Потому и не спится мрачной бабке, что ничего светлого вспоминать не хочет. Нудно ноет душа, поскуливает ветер за окнами. Хорошо бы крючочком памяти поймать петельку и вывязать красивый, хороший сон. Скорее бы снотворное подействовало.
Закрыла глаза, попыталась поглубже вздохнуть, хотела повернуться на бок, но замерла. Тупая игла вонзилась в подреберье. Рукой нашарила простыню, скомкала в кулак. Вдруг разжала пальцы, выдохнула и увидела, как…
Ветер поднял нагретую солнцем пыль. Она взлетела над проселочной дорогой и закрутилась в смерчик, веселенький, как юла. Разрастаясь, он втянул в себя легкий сор, золотистых мух и маленьких птиц, расшвырял ворох листвы и принялся за яблоки. Он терзал деревья, раскачивал, тормошил. Яблоки падали, глухо ударяясь о землю. Андрей собирал их в подол рубахи, но не удержал, выронил. Они посыпались, катясь и подпрыгивая на ухабах дороги, извилистой и длинной, идущей под откос в никуда…
Все началось с вранья – несерьезного, глупого. Просто Таньке очень захотелось вечером слинять из дому. Еще утром в классе они с Майей договорились устроить маленький праздник по поводу Дня Советской Армии. Накануне уехали Майкины родители, и в доме, если не считать шнауцера Геры, оставались только две старухи – бабушка Лиза и ее сестра Софья Марковна. Одна была почти совсем глухая, другая – в такой же степени слепая. Обычно бабушки засыпали не позже девяти и, если удавалось не шуметь, то родители оставались в неведении, кто и зачем приходил, и можно было делать все что угодно. Пока, правда, дальше распития легкого винца и курения на балконе дело не шло. Ну, целовалась Майка с Виталиком, но несерьезно, чуть-чуть, не взасос. Тане нравился Роман, но он только разговаривал, танцевать не хотел и уходил первым.
Уже почти два года Роман и Виталик сидели за одной партой, а Таня и Майя сразу за ними. Шли последние минуты последнего урока, и девчонки томились ожиданием. Майка прищурила глаз и, склонив голову набок, отметила, что у Витальки за последние пару месяцев значительно расширился плечевой пояс в связи с увлечением культуризмом, а вот у Ромки как была куриная шея, так и осталась. Это испортило Танькино настроение. Она отвернулась к окну и, поправив сползшие очки, съязвила насчет того, что на этой шее, по крайней мере, сидит светлая голова медалиста, а не футбольный мяч серой посредственности.
Майка перебросила мальчикам записочку с приглашением, через пару минут последовал ответный бросок, и свернутая трубочкой бумажка блохой запрыгала по парте. Виталик ответил, что всегда готов, а Ромка написал, что у него сегодня шахматы до восьми тридцати. Встречу назначили на девять, а между собой подружки договорились, что Таня придет в семь, иначе родители не отпустят.
Майя жила в двух кварталах от Тани, пешком – минут пятнадцать, но район был не из лучших. Соседство стекольного завода и гастронома с винно-водочным отделом превратило обшарпанные парадные хрущовок в общественные уборные, а ночной покой то и дело нарушался дурными криками загулявших работяг.
Таня соврала родителям, что идет к Майке готовиться к контрольной по математике и что Майин папа проводит. Так обычно и было. Дядя Жора выгуливал собаку и провожал Таню до самой двери. Мать строго обозначила время возвращения – не позже одиннадцати. Таньку оно устроило, два часа им хватит с головой.
Уже после пяти небо набухло и навалилось тяжестью собирающейся снежной бури. Но после недолгой белой прелюдии пух и перья сменились острыми шипами ледяного дождя. Он сыпал бисером, налипая хрустящей коркой на дороги и дома. Деревья упаковывались в стеклянные футляры. Ветви звенели под порывами ветра и скреблись в окна, как бездомные кошки. Такая погода, как правило, заканчивалась разными бедами, вроде оборванных проводов, разбитых машин и переполненных отделений «Скорой помощи».
Конечно, никакой гололед не мог остановить возбужденную Таньку. Накрутившись у зеркала, она запихнула в портфель узенькую короткую юбочку и тонкий свитерок с большим вырезом. Тихо, чтобы мама не заметила, выскользнула на улицу в новых сапогах на высоченном каблуке. Сапоги ей были куплены перед Новым годом, но мать их припрятала до весны. Сказала, что сейчас нечего таскать, еще ноги сломаешь, а вот как снег сойдет – пожалуйста.
Танька скользила по ледяной крошке, быстро перебирая тонкими длинными ногами. Ей удавалось удерживать равновесие, может быть, потому, что внутри уже начинал раскручиваться моторчик веселья, набиравшего обороты по мере приближения к Майкиному дому. Ей казалось, что именно сегодня Роман захочет целоваться. Он подошел к ней после уроков и как-то по-особенному, уставившись в пол, пробурчал, что обязательно придет, если она не передумала. Его взъерошенный чуб ощетинился и торчал иголками в разные стороны. Он стал похож на испуганного ежа, и ей захотелось его погладить. Она, конечно, этого не сделала, но сказала с выражением, как в стихах или в кино, что будет очень его ждать.
Таньке уже было почти шестнадцать, а вот целоваться в губы она еще ни разу не пробовала. Об этом, правда, знала только Майка, такое стыдно было говорить кому попало. В их классе некоторые попробовали все и по многу раз, а про Любку Бычкову рассказывали такое, что просто тошнило, даже смотреть было противно, как она обсасывает леденец на палочке.
Впереди, в опускающемся тумане, расплывались желтыми пятнами окна Майкиного дома. Возле него давно прорвало трубу, и асфальт блестел, как лакированный, под толстым слоем льда, отполированного задами и спинами падающих прохожих.
Танька разбежалась и проехала. Чуть не сломала каблук, совсем забыла, что сапоги другие. Прохожих на улицах было немного, все попрятались. А красота вокруг разрасталась, сверкала и позвякивала прозрачной хрупкостью льдинок, покрывших грубый и скучный пейзаж заводского района. Танька задрала голову и потянула ветку с большой сосулькой. Ледяные колючки, слетевшие с потревоженных ветвей, обожгли лицо и руки. Стекла очков потеряли прозрачность. Она зажмурилась и отодрала большущую, похожую на оплывшую свечу, сосульку. Как в детстве, провела горячим языком по бугристой поверхности, потом вдруг остановилась и, вспомнив Бычкову, засунула ее почти целиком в рот. Сработал рвотный инстинкт. Сплюнув талую воду, скривилась и отшвырнула ее подальше.