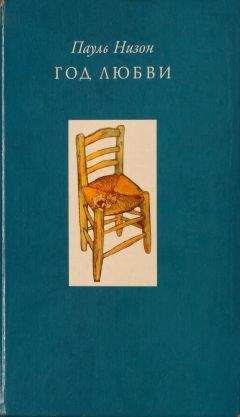Я сидел в этом мрачном, построенном по образцу старых замков здании и мечтал вырваться из него. Я смотрел в зарешеченное окно моего смешного кабинетика, втиснутого в боковую башню, наблюдал сквозь ветки деревьев за гуляющими после обеда людьми, замечал, как проясняется и снова темнеет небо, и все, что происходило за окном, казалось мне обворожительным: вон те женщины, что прогуливаются вдоль лесной опушки в расположенном неподалеку зоопарке, вероятно, пожилые, они поддерживают друг друга и все время останавливаются, чтобы энергично высказаться по каким-то своим маленьким проблемам, странно выглядит эта манера передвижения, эти остановки старых дам на усыпанной листвой дорожке для прогулок, в послеобеденную пору. Согнувшись и взяв друг друга под руку, они делают несколько шагов и снова останавливаются. Одновременно я представляю себе звуки сухих ударов по теннисному мячу — хлоп, хлоп, вижу гладко укатанную красную землю площадок за проволочной сеткой. За это время прогуливающиеся старухи прошли всего несколько метров и сейчас задрали головы вверх: над ними и лесной дорожкой проплыла большая птица, не ворона ли? А от леса доносится запах, что-то шуршит в кустах, маленькие птички, ничего более. Мне хочется туда, я бы обогнал широкими шагами этих старых дам и с головой окунулся в тихий послеобеденный воздух. Ароматы леса и земли, запах чуть прелой листвы. Я снова горблюсь над скучным годовым отчетом в этом крохотном башенном закутке, мне уже пришлось зажечь лампу. Скоро вечер, но конец рабочего дня не покажется мне освобождением: вместе с другими людьми на трамвайной остановке я сочту день потерянным, я даже не заметил, какой была погода. Вырвал этот день из календаря.
Обе старухи — или, может, стара только одна из них, та, что идет слегка согнувшись, наверняка состоятельная милая дама, а другая не моложе ли? Сиделка? Компаньонка? Более молодая родственница? То, как они наклоняются друг к другу посреди лесной тропинки под пологом деревьев, издали выглядит так, будто они секретничают; или же дама говорит: вот так, моя милая, и что я еще хотела сказать…
Голубятник подстриг или подровнял себе волосы, я заметил это, когда он высунулся из открытого окна, верхний конец палки изогнут, металлический прут с крючком на конце, епископский посох, чтобы отгонять голубей, лжепастырь. Он носит серые шерстяные кофты, к губе прилеплена сигарета. Сейчас он похож на каторжанина или на старика из дома престарелых. Подстриженные седые волосы над вязаным жилетом из серой шерсти… Похож он и на взятого под домашний арест, на обитателя дурдома, зловредный тип, надзиратель из числа заключенных. Все время замахивается прутом на голубей, которые в его глазах заслуживают не кормежки, а наказания. Иногда он высовывается из окна, чтобы прорычать что-то кому-то во дворе, что, само собой, начинается с MERDE, с ругательства. Когда он сидит, то держится боком, чтобы не упускать из поля зрения окно, голубей и меня. Вот уж у кого нет проблем со свободой, со свободным временем. Утром, прежде чем включить телевизор, он читает газету, редко в его руках появляется нечто похожее на книгу. Отвратительный субъект, иногда мне кажется, что я читаю на его лице выражение насмешливого превосходства или язвительного злорадства. Ах ты мразь, думаю я, ах, мерзавец, ни на что не годный мошенник, паразит, ORDURE, подонок то есть. Ты только отравляешь воздух своим присутствием и портишь настроение своим рыком. Наверно, раньше времени вышел на пенсию? Он еще не стар, тогда, значит, инвалид? Но я не вижу в нем никаких телесных изъянов. Это совсем не смешно, это же просто скандал, то, чем он занимается уже много лет подряд или даже десятилетий? Кормить и лупить палкой голубей, ругаться с женой, злобно рычать на кого-то во дворе. Не понимаю, почему он меня так раздражает, до сих пор не понимаю. Когда он высовывается из открытого окна и бросает скользкий, почти похотливый взгляд в мою сторону, вот только что он посмотрел на меня или сделал вид, что смотрит куда-то поверх моей головы, тогда у меня появляется ощущение, как будто по мне проползла улитка. Я думаю, ему хочется, чтобы я смотрел на него, он добивается моего внимания.
Недавно он исчез на несколько дней. Впервые за все эти годы его не было в окне. Какое-то время окно было распахнуто настежь и в нем черный зев комнаты. Голубка, его любимица, долго стояла на карнизе, потом я увидел — ей-ей, не вру, — как она прыгнула в комнату и там исчезла. Потом снова появилась в окне, как мне показалось, растерянная. Еще два-три голубя долго стояли в полной растерянности на соседнем карнизе перед окном, закрытым раздувавшейся занавеской. Ни крика, ни сердитого рыка, ни звука. Не умер ли голубятник, подумал я и все время задавал себе этот вопрос, я был весь поглощен этой мыслью, совершенно загипнотизирован пустым окном. Мне бы почувствовать облегчение, но вышло наоборот, я был встревожен. Только бы он не умер и не исчез навсегда, поймал я себя на мысли, только бы не это. Я привык к этому человеку. Мне казалось, что жизнь без голубятника станет беднее. Только бы он появился опять вместе со своим проклятым рыком, бормотал я про себя, только бы он вернулся, только бы не исчез навсегда.
На следующий вечер в окне вдруг возникла его жена. Я замер в ожидании. Она то подходила, то отходила, много раз. Что-то жуткое было в ее появлениях на фоне черного оконного отверстия. Затем она встала у окна и принялась кричать на кого-то — кого? поблизости никого не было, я в этом убедился, — кричать пронзительно, точно безумная. Дрянь, визжала она, дерьмо, сукин сын, сын суки, годами я подтирала за тобой, не притворяйся, я вижу тебя насквозь, кричала она. С кем это она? — в страхе думал я, неужели с голубятником, он умер, и теперь она разговаривает с ним, с призраком, что стоит где-то во дворе.
Но на другой день он снова был на месте, почти весело сидел у окна в своей характерной позе, бочком, и, как мне показалось, смотрел на меня своим хитрым, насмешливо-высокомерным, почти непристойным от самодовольства взглядом. Ну, собака, думаю я, хоть бы тебя черти унесли, навечно, думаю и говорю я, а сам чувствую облегчение, что эта горькая чаша еще раз меня миновала.
Ну, ты и негодяй, шептал я каждый раз, поднимаясь к себе мимо квартиры Флориана, я не мог отделаться от этой мысли, она преследовала меня.
Я жил в Цюрихе, в старом городе, в комнате, которую можно было бы назвать студией, в одной стене четыре окна, окна выходят на крыши старого города, а между крышами и домами, если подойти к окну, можно было увидеть кусочек реки. Но я редко подходил к окну, я сидел спиной к этой стене с окнами за громадным гладильным столом, из прошлого века, не стол, а целая лужайка, столешница от длительного глаженья отполирована до блеска, но теперь она была усеяна и сплошь покрыта листами бумаги, это было время, когда я очень много работал. Несмотря на романтический вид из окна, все остальное было лишено какой бы то ни было романтики, не говоря уже о том, что я вовсе не был влюблен в старый город, мне было наплевать на окрестности, я писал наперегонки со временем, нередко до глубокой ночи. Поэтому я сидел спиной к окнам, я игнорировал их, я хотел выплеснуть на бумагу то, что накопилось во мне, освободиться от груза, я был одержим яростью, я рвал цепи.
Подо мной жил этот господин, Флориан Бюнднер, у него тоже был большой деревянный стол с бугристыми распорками, пропитанный темной морилкой стол в стиле ренессанс. Он был завален стопками газет, книг, исписанными листами бумаги, рекламными проспектами; книги, листы бумаги и газеты были сложены в высокие, как башни, покачивающиеся штабеля. Если он приглашал кого-нибудь к себе, что случалось весьма часто, то ему приходилось два штабеля переносить на другой стол, но поскольку на другом столе, тоже деревянном, но меньших размеров, уже возвышались башни из ранее отложенных бумаг, это превращалось в довольно затруднительную процедуру. Флориан был чем-то вроде учителя. Собственно говоря, это был недоучившийся студент, в один прекрасный день он прервал изучение германистики у Эмиля Штайгера, не знаю, в каком семестре и по какой причине, и с тех пор, похоже, занят личными проектами, а для их финансирования дает изредка уроки немецкого в качестве внештатного учителя в одной школе с коммерческим уклоном, в которой если и интересовались его предметом, литературой, то только в той мере, в какой начинающие коммерсанты должны уметь грамматически правильно, с точками и запятыми, написать деловое письмо. Что до литературы, то и эти часы использовались им в общеобразовательных целях. Преподавая в этой школе, мой сосед выполнял свои обязанности самым расточительным образом, по слухам, он, точно агитатор на баррикадах, отделывался многословными увлекательными тирадами, никак не соответствовавшими тому, что было оговорено в трудовом соглашении, но ученики, похоже, любили этого учителя, резко выделявшегося на фоне других своих коллег необузданной мечтательностью и красноречием.