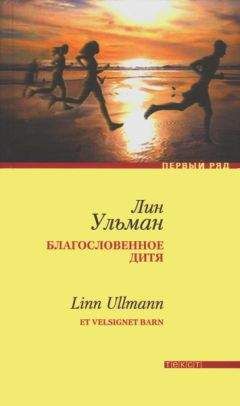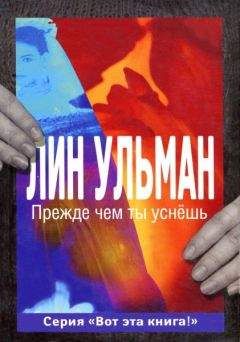— Дети вернулись?
— Да.
— Ну как, день рождения удался?
— Да. — Роза пожала плечами. — Во всяком случае, мне так показалось.
Вздохнув, она плотнее закуталась в серую шерстяную кофту. Она повернулась к нему, и теперь ему захотелось стать частью ее лица — поселиться в ее глазах, уголках губ, на щеках…
— Пойду уберу велосипеды, — сказала Роза.
* * *
Наступила ночь, поднялся шторм, который изо всех сил старался повалить деревья, обрушить каменные изгороди и пошатнуть дома, но деревья, каменные изгороди и дома уже так долго простояли здесь, что привыкли не поддаваться. Старожилы говорили, что остров переживал шторма и похуже.
Встав с кровати, Эрика выскользнула в коридор, сунула ноги в зеленые резиновые сапоги Исака, пробралась к входной двери и отперла ее. Развевая волосы и полы ночной рубашки, ветер подхватил ее и понес к морю. Она упала, разбила колени и задрожала. Сначала потому, что упала, а потом — из-за того, что услышала собственный тоненький голосок. Нет, это не был оглушительный испуганный крик. Ее голос звучал совсем тихо. Съежившись, она опустилась на землю. Было темно, поэтому ей не удавалось очистить ранки от мелких камешков и грязи, а на руках, на коленях и ночной рубашке расплывались пятна крови. Поднявшись, она побежала дальше. Она бежала, спотыкалась, падала, поднималась и опять бежала. Забежав в воду, она остановилась, широко расставив ноги в резиновых сапогах. Она открывает рот, ветер бросается на нее, а ей хочется перекричать и остановить его. Но что она должна сказать? Стоя на берегу, промокшая, дрожащая, с ободранными руками и разбитыми коленками, в окровавленной ночной рубашке, что она должна прокричать? НЕНАВИЖУ ТВОЮ ПОГАНУЮ ЧЕРНУЮ ФУТБОЛКУ! Она плачет. Она кричит. Море бьет ее и тянет вслед за собой, и она вспоминает, как он сказал однажды, что в таких случаях самое правильное уступить морю, позволить ему повалить тебя на спину. А еще он говорил, что когда бывает так темно, как сейчас, то море начинает светиться (это какое-то особенное природное явление, характерное для этого острова, но она так и не смогла запомнить название), и теперь она стояла в этом свете, и, возможно, он ее видел, может быть, он стоял и наблюдал за ней, спрятавшись в небольшой рощице, там, где заканчивался лес и начинался пляж. Побережье черное. Оно покрыто камнями. Дождь света не прибавляет. Она не знает, сколько простояла там, в волнах, под дождем, но она чувствует на себе его взгляд. Поднимая руку или делая шаг, она словно делает это ради него, и теперь она идет к нему, и он говорит: «Не уходи от меня, Эрика, не уходи, не уходи, пожалуйста. Не уходи».
Шел ливень, и все стало мокрым, тяжелым, серым и слякотным, а из-за грозы, грохотавшей над морем, отключилось электричество. Правда, об этом узнали только утром. А сейчас была ночь, и люди спали. Те же, кто бодрствовал, свет не включали.
Молли лежала рядом с Лаурой на узкой кровати, они не спали, потому что по комнате летал шмель. На улице бушевал шторм и гремел гром, но уснуть им не давал именно шмель.
— Тебе надо поспать, — сказала Лаура и заплакала.
— Бедняжка Лаура, — сказала Молли, погладив сестру по голове.
Лаура сжалась в комочек и обняла младшую сестренку за тоненькую талию.
— Ты ничего не понимаешь. Мы никогда больше не встанем! — прошептала она.
— Я думаю, что встанем, — сказала Молли. — Завтра мужчина скажет «Бэрланге», и мы сможем встать.
Лаура продолжала плакать.
— Ты ничего не понимаешь. Не понимаешь, о чем я. Не понимаешь, что произошло. Мы никогда больше не встанем.
— Да, — сказала Молли.
Лаура села в кровати и в упор посмотрела на Молли.
— Но ты никогда, никогда, никогда не должна никому рассказывать о том, что мы сделали на берегу.
— Ладно, — согласилась Молли.
— Если ты расскажешь кому-нибудь, то они придут к вам ночью, когда ты с твоей мамой будете спать… и у них будут ключи от всех дверей во всех странах, поэтому, даже если вы запретесь, это не поможет…
— Кто придет? — перебила ее Молли.
— Охотники, — сказала Лаура. — И когда они отопрут дверь и зайдут внутрь, то отыщут комнату твоей мамы и убьют ее пятью выстрелами в голову.
Молли заплакала.
— Ш-ш-ш, — прошептала Лаура.
Зажав уши руками, Молли продолжала плакать.
Вытерев собственные слезы, Лаура крепко обняла сестру и начала медленно раскачиваться, сидя на кровати.
— Ш-ш-ш, Молли. Ш-ш-ш. Все будет хорошо. Ты просто никому ничего не рассказывай.
Анна-Кристина расхаживала по холодному дому, доставшемуся ей от родителей, и смотрела на море. Она ждала Рагнара, который убежал из дому и до сих пор еще не вернулся. Они, как всегда, поссорились и наговорили друг дружке кучу гадостей. Он сказал, что хочет спать в домике в лесу. Она ответила, что он должен спать дома, в своей комнате. Потом они поужинали — отбивные с подливкой и мороженое с шоколадным соусом на десерт. Это его любимое блюдо и его любимый десерт, а потом был торт — лишь для них двоих. Затем они посмотрели смешной фильм по телевизору с Голди Хоун в главной роли. Они сидели рядом на коричневом диване, смотрели фильм и даже иногда смеялись. Он поблагодарил ее за ужин, торт и подарки, а потом заявил, что хочет пойти ночевать в домик. Она сказала — нет, и тогда он возмутился: «Мне четырнадцать лет, мама!», выскочил и хлопнул дверью. Теперь она стояла и смотрела в окно, ждала его, прислушиваясь, не донесется ли звук его шагов.
Палле Квист, который жил неподалеку от Анны-Кристины, сидел на стуле и пытался успокоиться перед сном. Увидев разрезающую небо молнию и услышав раскаты грома, он подумал, что только этого еще не хватало. Все лето светило солнце, это было самое жаркое лето с 1874 года, а тут вдруг полил дождь, налетел ветер и началась гроза — как раз за два дня до премьеры. Все пойдет насмарку! Сам Господь ополчился на него. Теперь ему точно не уснуть.
Исак тоже никак не мог успокоиться. Он думал о работе, которая ждет его в Стокгольме и Лунде, и о том, как ему не хочется уезжать отсюда. Вот бы остаться здесь, на Хаммарсё. Без друзей, без детей, без коллег, без пациентов, безо всех остальных. Только вдвоем с Розой. Жить тихо и мирно. Она ровно, глубоко дышала возле него. Роза всегда крепко спала. Ложилась на бок, натягивала одеяло, тушила свет, желала ему спокойной ночи и засыпала до половины восьмого следующего утра, когда она открывала глаза, готовясь встретить новый день. Такой была Роза. Он легонько подтолкнул ее в бок. Вообще-то беспокоился он по другой причине. Не только из-за скорого отъезда с острова. По иному поводу. Из-за того, чему не мог дать точного названия. Повернувшись, Роза сонно поглядела на него. Не в его привычках будить ее, когда он не мог уснуть. Исак сказал:
— Может, мне отказаться?
Он сел в кровати и тяжело вздохнул. Зевнув, Роза взяла его за руку.
— Я никогда не выучу текст, — сказал Исак.
Роза похлопала его по руке, словно маленького ребенка:
— По-моему, утро вечера мудренее. Это не такая уж серьезная проблема.
— Я не хочу показаться смешным. Только и всего. Не хочу показаться смешным.
Покачав головой, она улыбнулась. Потом закрыла глаза и вновь заснула, а Исак продолжал сидеть и всматриваться в темноту. Интересно, что она скажет, если он опять толкнет ее? Рассердится ли она? Сколько раз он может будить ее вот так, посреди ночи, пока она не рассердится? Роза, которая не сердилась никогда. Только в тот раз, когда родилась Молли. Тогда Роза сказала, что уходит от него и уезжает с острова, чтобы исчезнуть навсегда. Прежде он ее никогда такой не видел. Он был плохим отцом. Самым настоящим мерзавцем. Он был плохим отцом и мерзавцем. Когда они вырастут, то ему придется ответить перед ними. Перед детьми — Эрикой, Лаурой и Молли. Их матери уже предъявили ему свои обвинения, да и не они одни — целая толпа других женщин, исполненных чувства собственной правоты. «Ты предатель, Исак! Ты бесчувственный дьявол! Ты лжец!» Ладно-ладно, и что теперь? Что теперь? Тогда у него была его работа, и работа была важнее всего, благословенной отдушиной. Работа заполняла его мысли и освобождала его, и как-то давно он пообещал сам себе, что пускай он и мерзавец, но в своей области станет лучшим из профессионалов. Так и случилось. Исак Лёвенстад стал лучшим из профессионалов в своей области. Он стал настоящей звездой! И все равно как же ему хотелось разбудить Розу и спросить ее… О чем? О чем? О чем он позабыл? Что его так мучает? Что скоро придет время наводить порядок в доме, собирать чемоданы и возвращаться в город? Что в роли Мудреца на представлении он выставит себя на посмешище? Да-да, все так. Но было и что-то еще. Опустив ноги на пол, Исак посмотрел на колышущиеся шторы. Поднявшись с кровати, он босиком подошел к окну, отодвинул шпингалет и потянул раму на себя. Стал смотреть в окно. Позже, рассказывая Розе о том, что произошло, когда он стоял перед окном и смотрел на шторм, он говорил, что к нему будто бы прилетел ангел, который принялся шептать ему на ухо. На него снизошло озарение, предвидение, внезапная и неожиданная мысль, а именно: ему нужно немедленно бежать и отыскать своего ребенка. Вокруг столько воды. Так сыро и холодно. Невыносимо. Ему надо бежать, он не должен опять ложиться в постель. Над морем светало. Ему надо бежать туда. Перед его глазами встало лицо его ребенка, он дотронулся до него, и ребенок успокоился. Выбежав из спальни, Исак через гостиную выскочил в коридор. Резиновые сапоги исчезли, поэтому он надел кроссовки и широкий зеленый плащ. Он открыл дверь, и на него набросился ветер. Если бы Лаура, лежавшая без сна в другом конце дома, увидела его сейчас, то сказала бы, что это Исак набросился на ветер. Однако Лаура так и не увидела его, а Исак помчался дальше, топая ногами, словно великан или крупный зверь, выскочил за ограду, пробежал по лесу и направился к побережью. Когда он увидел ее, уже довольно далеко от берега, в одной ночной рубашке, увлекаемую волнами все дальше и дальше, то сначала решил, что опоздал. Он уже ничего не сможет сделать. Исак бросается в воду. На него обрушиваются потоки дождя и волны. Слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно — и он хватает ее, тянет к себе, поднимает на руки и несет на берег. Она дрожит и плачет. Эрика ничего не говорит. Исак тоже молчит. Она дрожит. Она плачет. Дотронувшись до ее лица, он прошептал: «Не плачь. Не надо». Поддерживая, Исак повел ее по берегу и через лес к дому. Он снял с нее ночную рубашку — она была совсем худенькой, совсем еще ребенок, Господи, подумал он, она и была ребенком, он вытер ее полотенцем и отыскал сухую пижаму, которую вообще-то носила Лаура. Затем уложил ее в постель, подоткнул одеяло и сел на краю.