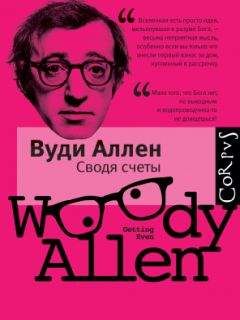— Согрей и накорми людей несчастных… — пронзительным голосом возгласил Хаммарстен, уронив очки в банку с крекерами. — Ночь выдалась жестокая для них.
— Я ничего не подписывал.
— Ты уволил его?
— Пришлось. За какое-то трудовое нарушение. Союз не смог опротестовать.
А я должен был покончить с угрозой забастовки. — Попросту говоря, старика надули, — заметил Энтони. — Его сын ни о чем не догадывается. Он думает, вы поможете.
— Скажите, чтобы он уходил, — повторил Крог. — Ему здесь нечего делать.
— Сомневаюсь, что он уйдет.
— Тогда гоните его в шею, — распорядился Крог. — Вам за это платят. Ступайте.
— И не подумаю, — ответил Энтони.
— О боже, — вздохнула Кейт, — надо кончать этот вечер. Веселья не получается. И коньяк мы весь вылили. Профессор, за каким чертом вы тащили сюда эти крекеры с сыром?
— Старый автомобиль, — объяснил тот. — Я не надеялся, что мы доползем, а девочкам надо питаться.
— Давайте собираться домой, — сказала Кейт. — Энтони, отпусти этого человека.
— Даже не подумаю, — повторил Энтони.
— Тогда я сама пойду. Ты сошел с ума, Энтони. — Холл! — неожиданно оповестил Крог. — Холл! — Он первым заметил его: там, под люстрами, в дальнем конце освещенного зала он разглядел вихлявую походку, твидовый костюм, узкое коричневое пальто с бархатным воротником («Это Холл», — пояснил он собранию), узкую обтекаемую шляпу, худую плоскую физиономию кокни.
— В конторе сказали, что вы здесь, мистер Крог.
— Все благополучно, разумеется…
С выражением глубочайшего недоверия Холл обвел взглядом застолье — профессор, трагическая дама, Энтони, Кейт. — Разумеется, мистер Крог. — Садитесь, Холл, и возьмите бокал. Вы летели самолетом?
— Я два часа проторчал в Мальме.
— Хотите крекер, Холл? — предложила Кейт, но Холл брезговал взять из ее рук — вообще брать из чужих рук. Даже принесенный официантом бокал он тайком протер под столом краешком скатерти. Его подозрительность и слепая преданность положили конец застольному разговору. — Смотри, как воет ветер, как разъярилось море, — возобновил свою декламацию Хаммарстен, но под взглядом Холла осекся и захрустел крекером. — Снимите пальто, Холл, — сказала Кейт.
— Я ненадолго. Просто зашел узнать, не нужно ли чего.
— Слушайте, мы не можем держать этого парня всю ночь, — сказал Энтони.
— Он промок до нитки.
— Кто такой? — спросил Холл. Он никого не удостоил взглядом, его юркие глазки буравили Крога; эти глазки приводили на память не привязчивую комнатную собачонку, а скорее поджарого каштанового терьера — из тех, что околачиваются под дверьми пивнушек, трусят за букмекером, с азартом травят кошек, в подвалах душат крыс.
— Это молодой Андерссон, — ответил Крог. — Его отец подстрекал к забастовке. Я с ним переговорил. Никаких письменных обещаний — шутка, сигара. Их, видите ли, волновал вопрос о заработной плате в Америке. Со стороны оркестра, путаясь в желто-лимонном платье, появилась блондинка: обиженно поджатые накрашенные губы, молящий взгляд — сорванный, смятый цветок, всеми забытый в ночном разгуле. — Ты не должен так обращаться со мной, Энтони. — И я его уволил. Нашли какое-то трудовое нарушение. Другого выхода не было. А этот малый напрашивается на скандал.
— Я совсем окоченела в этом автомобиле.
— По крайней мере, предложите ему выпить, — сказал Энтони.
— Поедем домой, Эрик, — сказала Кейт.
— Все равно вы его увидите. Я провел его в вестибюль. — Вы не хотите его видеть, мистер Крог? — спросил Холл. — Вы хотите, чтобы он отсюда убрался?
— Я же сказал: гоните его отсюда, — сказал Крог, обращаясь к Энтони. Холл молчал. Он даже не взглянул на Энтони — и без того ясно, что ни на кого из них мистер Крог не может положиться. Он встал — руки в карманах пальто, шляпа чуть сдвинута на лоб — и вразвалку прошел мимо оркестра, серебристых пальм, толкнул стеклянную дверь в просторный пустой вестибюль и мимо конторки направился прямо к пушистому ковру под центральной люстрой, где растерянно переминался молодой Андерссон. Из ресторана хлынули звуки оркестра: «Я жду, дорогая».
Я жду, дорогая.
Не надо сердиться.
Пора помириться.
Я так одинок.
* * *
— Ты Андерссон? — спросил Холл. Его знание шведского языка составляли, в основном, имена существительные, попавшие в разговорник. — Да, — ответил Андерссон, — да. — Он быстро подошел к Холлу.
— Домой, — сказал Холл. — Домой.
С любовью не шутят — Пойми, дорогая.
Меня не пугает…
* * *
— Домой, — повторил Холл. — Домой.
— Мне только повидать мистера Крога, — сказал Андерссон, пытаясь задобрить Холла улыбкой. Холл свалил его ударом в челюсть и, убедившись, что одного раза достаточно, снял кастет и приказал портье:
— На улицу! — Возвращаясь, он с горечью думал: расселись, дармоеды, пьют вино за его счет, а чтобы сделать для него что-нибудь — на это их нет. В зеркале около ресторанной двери он видел, как Андерссон с трудом поднялся на колени; его лицо было опущено, кровь капала на бежевый ковер. Холл не испытывал к нему ни злобы, ни сочувствия, поскольку все его существо поглотила та бездонная самоотверженная любовь, которую не измеришь никаким жалованьем. Он вспомнил о запонках. Коричневый кожаный футляр лежал в кармане рядом с кастетом, сейчас он потемнел от пропитавшей его крови. Закипая гневом. Холл грустно вертел футляр в пальцах. Как заботливо он его выбирал! Это не какая-нибудь дешевка — стильная вещь. Холл решительными шагами пересек вестибюль и потряс футляром перед лицом Андерссона.
— Ублюдок, — сказал он по-английски. — Жалкий ублюдок. У молодого Андерссона был полный рот крови, глаза заволокла красная пелена, он ничего не видел.
— Я не понимаю, — проговорил он, раздувая на губах пузыри. — Не понимаю.
Холл еще раз взмахнул футляром перед его лицом, потом поднял ногу и ударил в живот.
Поезд в Гетеборг уходил через полчаса. Прогуливаясь, Энтони и Лу поднялись, по Васагатан, миновали почту и повернули обратно. — Пора идти на вокзал, — сказала Лу.
— Я купил тебе конфеты на дорогу.
— Спасибо.
— Ты запаслась сигаретами?
— Да, — ответила Лу.
Утро в Гетеборге, завтрак в Дротнингхольме, обед с родителями — как мало они виделись, как пусто и голодно на душе. Поднял якорь английский лайнер, пришвартовавшийся у Гранд-Отеля в ту ночь, когда они прибыли в Стокгольм; на Хассельбакене убрали с улицы стулья; Тиволи закрыли. Скоро зима, все разъезжаются по домам.
— Журналы у тебя есть?
— Есть, есть.
Они повернулись спиной к шумной сутолоке на привокзальной площади, снова дошли до почты и вернулись назад. В ресторане напротив вокзала сидел Минти и студил кофе в блюдце, Энтони махнул ему рукой. Оставалось переброситься незначительными фразами — жалко, что уезжаешь, может, еще увидимся, мне было хорошо с тобой, спасибо, au revoir, auf Wiedersehen, если когда-нибудь будешь в Ковентри, — оставалось поцеловаться на платформе и взглядом проводить поезд.
— Мне было хорошо с тобой.
— И мне.
— Пора идти на вокзал. — Еще один шаг, у почты развернуться — и в обратный путь по Васагатан.
— Хорошо бы и мне уехать.
— Да.
— Будешь немного скучать?
— Да.
— Пиши.
— Какой смысл?
— Вон твой отец. Разыскивает тебя. Махни ему рукой, он успокоится и уйдет. Как всегда, с Локкартом.
Вот и еще что-то кончилось, еще одна зарубка в памяти рядом с лестничной площадкой, надписями на стене и молоком, которого не было. — Зачем тащиться на платформу? Осталось еще десять минут. — Высокие перистые облака затягивали ясный небосвод. — Будет дождь. — Я пройду с тобой немного дальше, — сказал Энтони. Что ж, думал он, это не самый худший конец: хуже, когда звонишь в пустую квартиру, ждешь все утро на лестнице и, не зная почерка, гадаешь, что она могла написать:
«Сегодня молока не было», «Вернусь в 12:30», «Вызвали, вернусь завтра»; среди полустершихся записей женские торсы, бегло нацарапанные мальчишеской рукой; прямо скажем, могло быть хуже, а так — было и кончилось, привет, Минти, привет, старина, выпейте чашечку кофе, каким-то будет новый туристский сезон, поживем — увидим. — Мне нравится твоя шляпка. — Она очень древняя. — Ничего страшного — все кончается, к этому привыкаешь, жизнь — та же азбука Морзе: точка — тире, точка — тире, не знаешь, где остановиться.
— Это уже мой поезд. Если когда-нибудь будешь в Ковентри…
— Вполне возможно.
— Бежим. Вот моя карточка. У нас есть телефон. Нужны крепкие нервы, чтобы не сорваться в эти лихорадочные последние минуты, когда бежишь вдоль вагонов, раздумывать уже некогда, и сейчас все кончится…
— Дальше не ходи.
— Еще немного. Вон твой вагон. — Когда кричит проводник и захлопывает дверь.