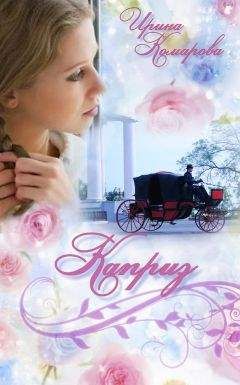Искомая точка вот-вот должна появиться, но почему-то не осчастливливает, вопреки расписанию. Откуда-то сверху раздается совершенный в бесполости своей голос, доносящий до меня обрывок фразы: «…за доставленные неудобства». Кто их доставил?! Впрочем, их всегда доставляют бесплатно и чаще — на дом.
Последние моменты я сосуществую с некоторым промежутком часов и минут, складывающихся и раскладывающихся во времени и пространстве, независимо от теории относительности: стою на перроне в ожидании чуда согласно расписанию, абсолютно вросшая в асфальт.
Вокзал с детства навевал на меня ностальгию по небывалому в этой жизни, ощетиниваясь ежовыми колючками неизведанных доселе троп; на вокзале у меня было почему-то только «прошлое» и «будущее», совсем без реала — я не умела тогда жить настоящим моментом, особенно в пасти ожидания. Зато вот в английском существовало «настоящее продолженное» — и ни тени прошлого в этом Tense, а только одно сплошное «сегодня» — но не окончательное, а векторно вверх устремленное — как вечное движение к божеству: у каждого — своему.
От мыслей этих отвлекает зычным пропитым баритоном носильщик с крашеной в рыжий железной тележкой:
— Поберегись! — и уже проскальзывает, проныривает сквозь толпу, где девчонка-мороженщица каждые две минуты зазывает покупателей. Хочется сменить пластинку; но и отойдя подальше, я слышу лишь едва ли более разнообразное и менее гортанное: «Пиво, чипсы, сосиски в тесте…» — а потом — в обратном порядке: аптека, улица, фонарь.
В этот раз на вокзале сменили зачем-то все указатели. Новая эстетика не возбуждает: привыклось-то к тем, срослось-то — с теми, а новые — чужие; не хочется ничего нового; только поезда этого чертова и хочется… хо-чет-ся…
— Который час?!
Задавшее вопрос человеческое существо сочло меня за ненормальную: я молча смотрю на часы, потом закрываю их рукавом свитера и ничего не отвечаю; какая разница, который?! «…за доставленные неудобства!..»
…Сколько еще?
И вообще — СКОЛЬКО ЕЩЕ?!
Как-то ко мне забрели знакомые. Мы сидели — в четыре бокала — за не слишком праздничным столом. После третьей «Арбатского» (тогда мы еще не брезговали им по причине банальной) перешли на извечную тему.
— Дели на десять! — выпуская дым, сказала Карина. — А лучше на сто. Все, что ни говорят, дели на сто!
— Я освоила деление на ноль, — ответила я. — Это удобней.
— Ты всегда была вещью в себе, — процедила та, с которой мы не встречались почти год. — Но не до такой же степени! — ее выщипанные бровки поползли наверх, но как-то утвердительно, и мне показалось, что не увидься мы еще пару-тройку лет, ничего не изменилось бы.
— Какая разница, дамы, — как-то слишком весело произнесла Ангелина, прекрасно освоившая штопор после второго развода. — Какая разница?!
’’Арбатское» брызнуло на скатерть; дамы закурили; я принесла курицу и послала соседа за «еще», отстегивая ему на пиво. Потом заговорили о работе, шмотках, книгах и болезнях; потом Ангелина читала новые стихи — и это казалось почти трогательным — они были изящны; а в одиннадцать начали расходиться, а утром — поезд…
…Те три недели дались с трудом: я вернулась из Межграда совершенно разбитая, подавленная, но, несмотря ни на что — счастливая злополучным межградовским счастьем, обостряющим восприятие того, чем он, увы, не является.
— Как ты ТАМ? — выдохнула я в телефонную трубку.
— По-разному. Когда ты приехала?
— Полчаса назад; почему у тебя все время занято?!
…Сначала он хотел посидеть в кафе; хотя, наверное, не слишком — впрочем, и я… У меня всегда поджилки тряслись при этих встречах.
А таксист довез быстро. Квартира пахла чужим, и мы ощущали неловкость момента, как первоклассники.
— Сюда точно никто не придет?
У него тоже плыло перед глазами. Он был даже красив. А еще мне нравилось то, как он говорит. Ест. Сидит. Дышит.
— Пощади! — сказала я, улыбаясь и желая обратного.
Потом ехали до гостиницы.
Потом еще день — всего день, и — это ведь катастрофа какая-то!!
Я старалась быть веселой, но, не рассчитав необратимых процессов, вылившихся в вечерние всхлипы, к ночи не могла произнести даже его имени… Он сказал, что обязательно приедет… и почему-то открылась форточка; я помню тот ветер… 'СКОЛЬКО ЕЩЕ?
Увы, стихов я не писала!
Бумагомарательный дар слова, так облегчающий кашляющую ауру, отсутствовал. Душа жила без поэтической клизмы — иначе было бы в чем-то легче.
Зато я лежала на полу, раскинув руки, и пыталась прочитать белые буквы, замурованные в белом потолке, а затем переворачивалась на живот, стекая на ковер копной волос.
А еще… еще я заставляла свое тело подняться, чтобы не видеть телефонную трубку; мне хотелось обрезать провод, когда звонил не он, — или обрезать для того, чтобы не ждать. Полярность «здесь-там» походила на чувственно-пространственные метастазы. Он не мог — быть может, боялся — сюда; я же — почти хотела, но вряд ли могла, — к нему.
Нас познакомила когда-то его сестра. Его дочери маячило десять. Я думала, что свихнусь. В ожидании поезда.
И вот, экспресс наконец-то загудел. Я прищурилась, стараясь быстрее вычленить фигуру из общей массы. Фигура обозначилась не сразу, но, обозначившись, довольно быстро начала приближение.
Что могла ощущать я, кроме отсутствия асфальта?! Мы обнялись, как обнимаются, наверное, возвращающиеся с войны: я знаю войну двух душ, я смею судить.
Люди не имели никакого значения, а если и имели — то не в нашем измерении; исчезли и вокзал, и его дурацкий шум.
Мы стояли — между Небом и Землей — как ископаемые, обозначая собой центр Вселенной, пуп Земли; завидуйте, плюйтесь, усмехайтесь — мне все равно.
— Не знаю, как прожила двадцать один день. Почти умерла. Почему так нескоро? Так долго? По-че-му-у-у?!!
— Я ничего не понимаю в этой жизни; только… — он взял мое лицо в свои ладони… — Все будет хорошо, помнишь?!
Я помнила.
И мы выходили на привокзальную площадь, и шли, обнявшись, по каким-то улицам, и долгодлинно целовались на эскалаторе, и цветы падали у меня из рук…
А потом почему-то смотрели в «Иллюзионе» «Аббу» и до упора просаживали деньги в маленьком ресторанчике неподалёку.
Он вглядывался — через шампанское — мне в глаза и говорил, что я катастрофически красива, и что обладать такой женщиной — больше, чем счастье, и что он, в сущности, слегка кретин и просит только чуть-чуть подождать, ведь нельзя же так — сразу…
А под утро мы поехали ко мне, лелея лишь одно — чтобы эти двое суток никогда не заканчивались; нам уже не приходилось постоянно обволакивать мысли в слова: слова не имели никакого значения, они были бессильны перед нашими лицами и прикосновениями.
В тот раз мне как-то особенно не хотелось отпускать его. Погода шептала, но листья кружились на ветру, видимо, все же медленнее наших головокружений.
Я не представляла, что могу источать такое количество слез: сплошная лужа, а не глаза. Он просил: «Не надо, так хуже. Мы же еще увидимся. Ну, скажи: у-ви-дим-ся», — произносил по слогам, а я повторяла, и если бы этого не происходило на самом деле, то жутко напоминало бы пошлую мелодраму.
Стекло поезда с легкостью перекосило этот мир. Я четко различала черное и белое, хотя догадывалась, что ни того, ни другого, в принципе, не существует; но я не была настолько принципиальна… Потом приложила ладонь — через стекольную завесу — к ладони за перронным миром; оставалось только бежать за вагоном: «…синенький скромный платочек падал с опущенных плеч…»
А вечером уже писала письмо в Межград — в этом промежутке можно любить только буквами.
Через день он позвонил и сказал, что увольняется. Что немного приболел, но это — так, ерунда: давление. Что должен продать дачу и квартиру: «Чтобы приехать к тебе». Из Межграда — в Город. Что осталось потерпеть совсем, в сущности, немного и что, конечно же, все будет хорошо. Его голос делал так, что я срасталась с телефонной трубкой — это, видимо, и есть тот самый оргазм души — пошло, конечно, да только не знаю, как еще назвать по-другому. Глуховатое «…тоже тебя…» звучало совсем почти сказочно, и мы не боялись потерять эту сказку — МЕЖГРАД, заставляющий проживать день как месяц из-за инквизиторского лимита даже секунд.
— Приезжай скорее! — раздалось одновременно на разных концах проводов, но в этот момент все внезапно оборвалось: остались одни гудки.
Прошло еще сколько-то писем, неприездов, «Алло, это ты?» У меня постоянно болела голова — к тому же на работе был полный абзац, не давали даже за свой счет. На «по собственному желанию» не хватало духа, и я совершала пустые однообразные действия, перечитывая по вечерам почему-то Паустовского — успокаивал. Я просыпалась, существовала, засыпала, опять просыпалась — и, в единственной тщетной надежде увидеть его скоро, почти смирилась с этим, хотя, конечно, как только не изворачивался мой мозг перед самим собой!