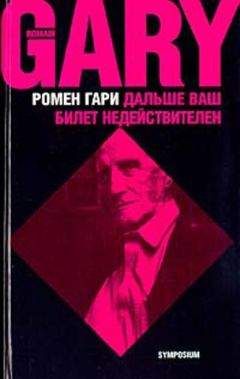— Компресс… — машинально пробормотал он. — Нет, это не пойдет… Ну, значит, все. Больше ничего не придумаю. Похоже, я истощаюсь, придется менять профессию…
Иногда месье Бажу выходил из кухни «подышать воздухом», садился на лавку и кидал камень. Плюха бежала за ним и приносила хозяину, а тот кидал опять… и так добрых полчаса. «В моем возрасте, — говорил месье Бажу, утирая пот со лба, — полезно поразмяться, а заодно и аппетит нагулять». Если разминка затягивалась, Плюха изъявляла протест: садилась на землю и отказывалась сдвигаться с места. Месье Бажу ругал ее долго и смачно, обзывал «сарделькой» и «жирной тварью». А потом и сам отправлялся «немножко соснуть». Однажды утром, одеваясь, я нашел в кармане помятое письмо, долго разглядывал незнакомый убористый почерк на конверте и вдруг понял: это письмо, которое дал мне перед смертью Кюль и о котором я совсем забыл. Меня обжег стыд, я вспомнил, как умоляюще смотрел на меня эльзасец, как силился что-то сказать. В тот же день я отнес письмо на почту в Фонтенбло и отправил. К тому времени я полностью оправился и с ужасом думал, что же теперь делать. Меня преследовала мысль о Вандерпуте, и, как ни странно, я испытывал потребность увидеться и поговорить с ним. Мне хотелось расспросить его, узнать, что с ним было в прошлом. Хотелось разведать его след, чтобы не пойти по нему, разузнать, какой тропкой он прошел, чтобы не свернуть на нее самому. Иногда я выходил на дорогу, брел вдоль поля и терзал себя мучительными вопросами, на которые не мог ответить. Я снова чувствовал себя отрезанным, отгороженным от людей, единственным уцелевшим на плоту. Почему, думал я, вокруг меня происходят какие-то великие события мирового масштаба, а я не могу принимать в них участия; мне вдруг пришло в голову, что отец тоже жил отгороженным от людей, а когда попытался к ним присоединиться, то потерял жизнь. Но теперь эта цена не казалась мне слишком большой, я и сам был готов заплатить ее. Я глядел на склоненные человеческие фигурки в полях, на эти разноцветные — красные, желтые, синие — пятнышки, которые передвигались под ярким солнцем, и хотел только одного: быть среди них, раз и навсегда стать такой же фигуркой, как все прочие, таким же цветным пятнышком на земле, еще одной парой рук, еще одной безмятежной душой, вырваться наконец из своего одиночного заточения и разделить всеобщее одиночество человеческого рода. Как-то раз в вечерней газете мне попалась на глаза статейка о том, что группа молодых людей собирается уехать в Камерун и основать там колонию-коммуну, и меня пронзило по-детски острое желание поехать с ними, я ведь неплохой водитель, а у них наверняка будут грузовики, впрочем, я бы согласился делать что угодно. В статье говорилось, что им не хватает денег, наберись у них миллион франков — и они могли бы отправиться прямо сейчас. Боже мой, подумал я, франки еще на что-то годятся! Я представлял себе, как принесу им недостающий миллион, а взамен попрошу, чтобы они взяли меня шофером. Лежа посреди поля с травинкой в зубах, я мечтал об Африке, трава вокруг превращалась в джунгли, мне мерещилось озеро Чад и бродящий по берегу старый слон-бобыль, которого считают гордецом. Все это я когда-то вычитал в книжке. Я смотрел на небо высоко над головой — небесный свод, под которым умещается столько всего… столько стран и континентов, столько разных судеб, — и ко мне возвращалась бодрость, я начинал думать, что, может, и не стану Вандерпутом, а сверну в другую сторону. Сначала вернусь в Париж, потом махну в Африку с этой готовящейся экспедицией. Миллион франков — какой пустяк, я только усмехался: достану я им этот миллион запросто. Стоит только порыться в квартире на улице Принцессы, наверняка там еще кое-что осталось. Старик, уж верно, припрятал деньжат, а нет, так я его заставлю продать что-нибудь из его помпезной мебели или картин, которые пылятся без толку. И я сказал супругам Бажу, что собираюсь идти «домой».
— А вы уверены, что вам есть куда идти? — спросил месье Бажу. — Меня это не касается, и я вас ни о чем не спрашиваю, но все-таки…
Я уверил его, что у меня есть приемный отец, который сейчас в отъезде, но скоро вернется и будет очень беспокоиться, если не найдет меня дома. Настал день, когда я отправился в обратный путь, и все семейство вышло на дорогу проводить меня. Месье Бажу в своем неизменном колпаке, Плюха с компрессом на заду и мадам Бажу в юбке в синий цветочек, которая колыхалась на ветру.
— Мы будем ждать вас! — кричала мадам Бажу. — Приходите поскорее вместе с отцом!
Супруги были искренне растроганы, а Плюха глянула на меня без особого восторга и воспользовалась моментом, чтобы в очередной раз содрать компресс. Уже издали я видел на фоне неба, как две черные фигурки, размахивая руками, бегут за удирающей собакой. К пяти вечера я был в Париже и пошел прямиком на улицу Принцессы. Консьержки на месте не оказалось. Около подъезда стоял какой-то человек и читал спортивную газету. Я поднялся в квартиру. Все окна там были закрыты, ставни опущены; солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели, увязали в пыли; в гостиной на столе так и остались объедки и грязные тарелки тенора и Рапсодии, на полу валялась салфетка, которую в спешке отшвырнул итальянец… Я открыл окно, солнце брызнуло сквозь облако пыли на роскошную мебель, я услышал женский смех. Потом я открыл ставни в спальне старика; щекастые толстозадые ангелы на балдахине приветственно трубили в трубы. Но комната опустела: барахолка исчезла; ни шляп, ни пальто, ни пиджаков на гвоздях и креслах, ни открыток на стенах, ни разбросанной повсюду рухляди — видимо, старик убрался отсюда. Наверно, заезжал забрать свои драгоценные «личные вещи», без которых не мог жить. Я улыбнулся, и мне снова очень захотелось увидеться, поговорить с ним… В коридоре скрипнула половица, но я не обратил внимания — она часто скрипела сама по себе, по привычке, тоже ведь старая… Но скрип повторился, уже громче, я вскочил, обернулся. По коридору кто-то шел — тяжелые, чужие шаги приближались, кровь бросилась мне в лицо, тонкий плаксивый голос прозвучал в ушах: «Чую, паленым пахнет, ох, чую!»
Тот, кого легко сбить с ног камнем,
шел и шел вот уж двести тысяч лет,
как вдруг послышались злобные крики, угрозы —
кто-то пытался его запугать.
Анри Мишо
— Сигарету?
Инспектор вынул из кармана синюю пачку «Голуаз», сунул одну штуку мне в рот, дотронувшись рукой до губ, и дал огня. Это была моя первая французская сигарета за много лет.
— Я не Жоановичи[16], — сказал я.
Сыщиков было двое. Один, толстый, седоватый, с шерстяным шарфом на шее, сидел на мягкой козетке Людовика XV — грузная туша на розовом шелке выглядела ужасно нелепо. Прямо у него над головой, на стене, папа римский предостерегающе (как мне казалось) воздевал перст. Четыре любезных Вандерпуту классика с каменным бесстрастием застыли по углам. В красивом каминном зеркале отражался профиль инспектора; фетровая шляпа, сигарета в углу рта, тяжелые черты лица — весьма красноречивый портрет в лепной позолоченной раме. Его напарник — молодой, стройный, со вкусом одетый. От него пахло нафталином — был первый по-настоящему теплый день, и он, должно быть, достал по такому случаю из шкафа свой летний костюм. Он непрерывно курил и время от времени бережно, кончиками пальцев приглаживал волосы. У меня вдруг возникло чувство, что где-то я уже видел этого человека: он вот так же стоял, прислонившись к стене, с таким же невыразительным лицом, так же поправлял волосы.
— Я не Жоановичи.
Инспектор, пожевывая окурок, осмотрел ширму: на ней нагие воины в шлемах стояли на запряженной львами колеснице и победно трубили в трубы. Потом вздохнул и сказал:
— Лучше бы не геройствовал, а поплакал, что ли…
— После вас, — сказал я.
Они толкнули меня в кресло, так что я буквально утонул в нем. Мне было страшно жарко, от не по погоде теплого пальто и шарфа, да еще и от страха. Все сильнее тошнило, видно, что-то не то съел за обедом. Шляпа валялась на полу — упала, когда я, больше из принципа, пытался вырваться из рук инспектора.
— Ну, так где он? — спросил тот, что помоложе.
— Жоановичи? Говорят, он подкупил полицейских и они помогли ему перейти границу.
Молодой отвесил мне оплеуху. Инспектор поморщился:
— Поаккуратнее, Фримо! Он еще малолетка… и в общем-то ни в чем не виновен.
За окном послышались голоса: две служанки переговаривались с этажа на этаж, одна засмеялась. Молодой сыщик закрыл окно. Меня вдруг наполнило удивительное веселье и бодрость, я почувствовал облегчение, словно сбросил самого себя, как тяжкое бремя, и стал свободным.
— Где Вандерпут?
Наверное, в гостинице. Небось устроил там с комфортом свой жестар-фелюш на спинке стула, а сам сидит на кровати в жилетке с торчащими уголками в обнимку с чемоданчиком. Старая развалина, которой давно пора на свалку.