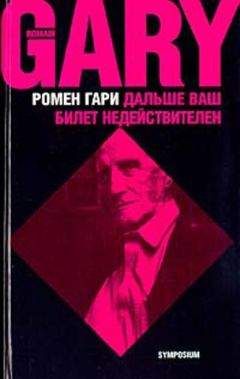— Не знаю.
Инспектор сунул мне в лицо сафьяновую записную книжечку:
— Узнаешь вот это?
— Нет.
— А имя Кюль тебе что-нибудь говорит?
— Нет.
Инспектор поерзал на козетке. Ему, видно, было очень не по себе.
— Твой отец погиб в партизанском отряде в Везьере, — сказал он.
— При чем тут мой отец! Оставьте его в покое.
— Твой отец был герой, — сказал молодой.
Он как-то подтянулся, приободрился. Конечно, он же понимал, в какую играет игру. Я тоже понимал. Они знают про банду и хотят меня расколоть.
— Ты знаешь, почему мы ищем Вандерпута?
— Ничего я не знаю. Я вообще тупой, ничего не соображаю.
— Ну так мы тебе расскажем.
— Вот-вот. Объясните, в чем дело.
— Дураком прикидывается, — сказал молодой. — Чтоб он два года прожил со стариком и ничего не знал… Как же!
Но инспектор не был так уверен.
— Сомнение — в пользу обвиняемого, — сказал он.
Он порылся в кармане и бросил мне на колени пачку фотографий. Теперь, когда речь уже не шла о моем отце, мне было не так плохо. Но я оставался начеку. Подозревал подвох. Я не глядел на фотографии, не прикасался к ним. У меня свело живот, тревога подступала к горлу. Мне стало ясно: дело не во мне, они пришли не за мной. Смутное предчувствие холодными тисками сжало сердце. Фотографии так и лежали у меня на коленях. Маленькие карточки, как для документов. Я по-прежнему не решался их тронуть. И сам сидел не шевелясь, вжавшись в кресло. Капли пота стекали с висков.
— Восемнадцать человек, — сказал инспектор. — Так знал ты или нет? — Он поежился. — У меня сын такой, как ты, и мне хочется верить, что ты не знал… Это фотографии патриотов, которых Вандерпут выдал немцам во время оккупации.
Я услышал, словно издалека, слабый дрожащий голос:
— Не может быть!
Голос приблизился, окреп, превратился в крик:
— Неправда! Врете вы! Хотите, чтобы я попался!
Я вцепился в подлокотники кресла и повторил уже спокойно:
— Неправда. Мало ли что можно придумать…
Инспектор сдвинул языком окурок и сказал:
— Послушай, что тут написано.
Он открыл сафьяновую книжечку. Ему тоже было жарко — он размотал свой шарф и сдвинул на затылок шляпу. Я уставился на книжечку и подумал о конверте, который Кюль передал мне перед смертью, а я отнес на почту в Фонтенбло. Инспектор, не убирая прилипшего к губе окурка, стал читать:
— В этой записной книжке содержится детальный, с точностью до дня, отчет о содеянном Густавом Вандерпутом, ныне проживающим в доме номер 227 по улице Принцессы, в квартире Жана-Франсуа Марье, погибшего в немецком концлагере. Состоя в течение пятнадцати лет в дружеских отношениях с вышеуказанным господином, я имел возможность проследить за развитием событий, о которых имею честь сообщить, с 22 декабря 1941 года, когда Вандерпут вступил в ячейку Сопротивления «Улей», и вплоть до Освобождения. С первых дней оккупации Вандерпут твердил: «Теперь или никогда. Давайте оба примем участие! Я всегда был одиночкой, сидел в своей норе, но, думаю, на этот раз пришло время… как бы это сказать?.. объединиться с другими людьми. Что скажете? По-вашему, я смешон? Знаю-знаю, в моем возрасте, с моими болячками… Но мне кажется, я еще на что-то могу сгодиться. Еще есть надежда». Наверное, примерно то же самое он рассказывал человеку, с которым я его свел… и чью квартиру он до сих пор занимает. Он говорил искренне, похоже, это действительно был его последний шанс сделать что-то полезное, и, хотя поручить ему серьезное дело вряд ли было возможно, его все же взяли, из жалости… — Инспектор вздохнул, удрученно посмотрел на меня и стал читать дальше: — Все как-то сторонились, недолюбливали его, но он брался за любые, даже самые мелкие дела, так что его услугами продолжали пользоваться. Он, верно, очень страдал из-за того, что внушал всем чуть ли не физическое отвращение. И прозвище себе выбрал неспроста: назвался Крысой. Именно это он всю жизнь с горечью читал во взглядах окружающих. Впрочем, и внешность его… суетливая походка, сутулая спина, дрожащие усы… словом, прозвище ему подходило… Крыса проявил изрядные способности к подпольной работе, как будто всю жизнь ничем другим не занимался. Ему доверяли все более и более важные задания, а через год он стал одной из ключевых фигур подпольной организации. Он все знал, во все вникал и словно бы преобразился. Это его очень радовало. «Я стал другим человеком, — говорил он. — И даже помолодел, вы не находите?» Я молчал и ждал, что будет дальше. Седьмого января 1943 года Вандерпута арестовало гестапо. Но очень скоро его отпустили — он назвал место и дату совещания руководителей подполья, которое должно было состояться в Карпантра, и согласился сотрудничать с немцами…
Инспектор остановился, выплюнул окурок и закурил новую сигарету.
— Хватит с тебя? А то тут очень длинно…
Я молчал.
— Ну давай же, выкладывай! — нетерпеливо сказал молодой. — Где Вандерпут?
Он так и стоял у меня перед глазами. Испуганное лицо, шарахающийся от стенок взгляд; каждое слово, каждое движение, которые я видел и слышал за все эти годы, приобретали теперь истинный, обличающий смысл. Не оставалось ни малейшего сомнения. Вандерпут действительно сделал это. Достаточно немножко поворошить прошлое — доказательства на каждом шагу. Вспомнить, к примеру, что он учинил как-то в декабре. Я тогда стал замечать, что старик ходит с таинственным видом. Несколько раз он подступал ко мне, открывал рот, будто хотел что-то сказать, но потом ретировался, так ничего и не выговорив. Еще я заметил, что он стал чаще, чем обычно, запираться в своей комнате. Из-за двери было слышно, как он стучит молотком, что-то пилит — словом, работает вовсю, а иногда даже напевает. Поющий Вандерпут — это нечто особенное. Похоже, он начинал петь, чтобы подбодрить себя, как некоторые свистят в темноте. А он всегда чувствовал себя потерявшимся в ночи и для храбрости, чтобы показать, что ему совсем не страшно, напевал. Срывающимся, ломким, встревоженным голосом. Причем только если думал, что его никто не слышит. Но скоро загадочные звуки в комнате старика прекратились, и мы обо всем этом забыли. Он еще пару раз попробовал заговорить со мной, но дальше замечаний о погоде и о делах беседа не шла. В честь Нового года мы с Леонсом сходили в кино на два сеанса, а потом пришли домой и легли спать. Утром я проснулся от того, что Леонс тянул меня за руку.
— Погляди-ка!
Я встал. В доме было холодно. Мы вышли в коридор. В комнате старика горел свет, делавший его усы еще желтее. Вандерпут сидел на стуле и спал, уронив голову на грудь, с потухшей сигаретой во рту. Плечи накрывал шотландский плед. С подбородка свисала длинная белая борода. На коленях лежал какой-то красный балахон и красный колпак с белым помпоном. А посреди комнаты стояла великолепная елка, она упиралась в потолок и, кажется, собиралась вырасти еще выше — это ее Вандерпут подпиливал и устанавливал. Елка была старательно украшена. На ветках висели краснощекие ангелы, разноцветные шары, засахаренные каштаны; клочки ваты изображали снег. Свечи погасли. На столе стояло блюдо с едва надрезанной громадной индейкой, три бутылки шампанского — две уже пустые, — орехи и пирожные. Накрыто было на троих, и три стула стояли вокруг стола. Наверное, Вандерпут колебался до последней минуты, но так и не решился… Посередине стола я увидел фотографию Вандерпута в детстве — ту самую, что он мне когда-то показывал. На два пустых стула он усадил единственных друзей, которые не могли отказаться от его приглашения: на спинке одного расположился жестар-фелюш, на спинке другого — жилет в горошек с оттопыренными уголками; оба, казалось, тоже спали. Перед каждым стоял полный бокал шампанского.
— Ничего себе! — прошептал Леонс.
Старик спал как убитый, с открытым ртом. Усы дрожали от храпа, белая борода съехала набок, так что стали видны завязки.
— Где Вандерпут?
— В гостинице, но я не помню название.
— На какой улице?
— Да откуда я знаю! Я что, смотрел? Место помню, а уж как улица называется…
— Это далеко?
— На Монмартре.
— Веди нас туда.
Да, он стоял у меня перед глазами. Хриплое дыхание, испуганные глаза. Так было всегда: стоило кому-то пройти по лестнице — и старик замирал, как ящерица. И, спускаясь с сыщиками по лестнице, я ясно видел, как вздрагивает и вытягивается лицо старика, будто он слышит эти шаги за километры. Уже много лет, как сердце его от волнения не билось сильнее, а, наоборот, чуть ли не останавливалось. Врач давным-давно категорически запретил ему волноваться. «В вашем возрасте, месье Вандерпут, и при вашем общем состоянии вам ни в коем случае нельзя ничего принимать близко к сердцу. Так-то, юноша. И, что самое удивительное, у меня это получается. Вот уж двадцать лет, как я перестал волноваться. Я имею в виду настоящее, глубокое волнение. Рябь на поверхности не в счет — от ветра не спрячешься. Но внутри полный покой. Тишь и тина. Ничто не колышется. Хотя на самом деле я сам не знаю толком, что там есть, никогда не хватало духу заглянуть. Что-то есть, это точно. Спряталось в тине. На самом дне. Сжалось в комок. Затравленное. Затаило дух. Шерсть дыбом. Клацает зубами. Брр! И знаете, что это, юноша? Это жизнь, сама жизнь…» Я видел, как его трясет, вот он достал из чемодана плед, закутал плечи. Потом взял яблоко, открыл складной нож и принялся его аккуратно чистить — ему велели съедать по два яблока в день.