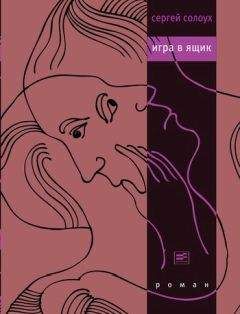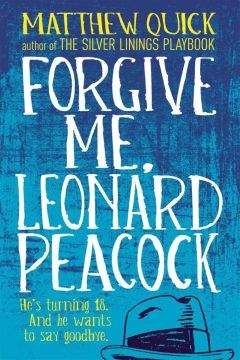– Ничего, – тихо ответил мальчик.
Он медленно отошел и, необычно тесно ставя черные калошики, обвел злобно оскалившийся квартет Дэ, И, эМ, А пет лей-удавкой. Немного постоял, переступил, и пошел на второй, почти соприкасающийся с буквами круг. Ромка понял, что сейчас произойдет, и это понимание было каким-то сверхважным и очень, очень ему нужным. Именно сейчас.
– Ура! – крикнул тогда большой Подцепа и со всей безжалостною косолапостью, на которою был только способен, попер, давя свои же буквы, попер навстречу сыну.
«Вот так и меня... да я сам вот так... Сам постоянно все хочу зачем-то получить до срока, – думал Ромка, трудясь бок о бок, с дивно сопящим и раскрасневшимся от счастья малышом. – Ну рано ему еще читать, наверное. Шестой год. Буквы знает, и хорошо. Всему свое время. Через год прочтет. А я защищусь. И перестану считать каждую копейку. Время работает на сильного. И все придет. Придет само собой, потому что такова задумка, план, график и расписание. Всему свой черед, и нефиг поддаваться настроению. Причем чужому. Абсолютно несвойственному мне и даже неприличному. Честное слово. Главное вот так переть. Переть вперед. Буром, катком. Не срываться, не метаться, не делать пусть и невидимые миру, но непростительные глупости».
Все буквы, страшные Д, И, М, А тем временем исчезли, утонули в сочном, чавкающем под ногами мелководье. Красота. Отец и сын смотрели друг на друга, потные, взъерошенные и бесконечно дорогие друг другу.
«Еще и лучше тебя будет, – думал Ромка, любуясь большими мамиными глазами сына. – Чего? Вот ты косой да кольчугинский. А сын твой смотрит прямо, и вообще южносибирский. Даже московский скоро, на минуточку...»
– Папа, – безо всякой видимой логики и связи со снежной дурью сказал Димок, – я правда слышал. Про тебя. По радио. Роман Романович Подцепа. Директор. Почему ты не веришь?
– Верю. Верю, конечно. Просто это была передача из будущего. Понимаешь? Радио Завтра.
– Маяк, – негромко, но очень твердо сказал сын.
– Мама, смотри, мама идет... вон, на той стороне...
И в самом деле. Маринка как раз вышла из тени большого здания Облсовпрофа, и ее казахстанская лисья шапка боярыней плыла над еще белой, еще нерастаявшей площадью.
– Что вы тут делали, бандиты? Все расстегнутые? – спросила Маринка, как всегда устало, но ласково, по-свойски улыбаясь, когда отец и сын, скользя, словно на коньках, но оставляя за собой широкие и мокрые, как будто лыжные, следы, затормозили рядом.
– Мы наблюдали будущее в большую подзорную трубу.
– И как оно?
– Прекрасно.
– Ну хорошо. Пошли теперь с микроскопом искать потерянную пуговицу от воротника.
И каждый день ему было хорошо. Можно сказать, все лучше и лучше. И в субботу тридцатого Ромка даже помиловал Маринкиного брата. Разрешил ему разок явиться. Полежать в ванной, пообедать и переночевать. Побыть с Димком, пока Марина и Роман ходили в кинотеатр «Москва» на фильм-комедию «Женатый холостяк», а потом в ресторан «Кузбасс», а после гуляли до полуночи вдоль блестящей от бусин-фонарей Весенней. Рассыпанные жемчуга.
Маринка говорила и говорила. Полгода копила в своем легком, похожем на веретено и, как веретено, не знающем покоя теле. По сути дела, она непрерывно жаловалась. Но как-то так над собой и своими ненормальными обидчиками или глупыми обстоятельствами все время пошучивая, посмеиваясь, всех заранее извиняя и прощая, что этот нескончаемый поток не раздражал.
Совершенно не складывались у Маринки отношения с большой и неопрятной начальницей ВЦ ЮИВОГ. Маринка отказывалась работать сверхурочно, в отместку протухшая толстуха ловила ее на входе по утрам. «Сколько на ваших, Марина Олеговна? Без одной восемь, а у меня три минуты девятого». Пропустила институтскую спартакиаду, не выступила на лыжне в общем зачете, получила в назидание уже давно и всеми от полной безнадежности зарытую задачку – отладить или заново написать обработчик ввода перфолент.
– То ли я такая бестолковая, то ли он чудит, то ли ленты у всех вечно полевые, грязные, то ли вместо спирта его моют сладким чаем...
Мать в свою очередь не отставала. Такая же фигурка вечного беспокойства, большеглазая, но начисто лишенная Маринкиной самоиронии и мягкости. Строчила из своего семипалатинско-курчатовского далека, точила камень.
– Пишет, что я брошенка. Хорошее слово, да? Как будто украшение такое для шляпки или кофточки. Брошенка с бериллами.
Маринка все рассказывала и рассказывала. Нить тянулась и тянулась, большого Ромку пеленала, заворачивала в кокон, второй слой, третий, пятый, но эта ватная, удушающая незаметно, невзначай безнадежность его не пугала – наоборот, веселила и даже радовала. Потому, что он сам решение принял. Легко и просто разрывающее все эти паучьи путы. А до последнего дня молчал, ничего не говорил лишь по одной очевидной причине. Не хотел и не собирался обсуждать. Зачем? Решение есть. Он, Ромка Подцепа, глава семейства, его объявит, а дальше... дальше лишь точное и своевременное исполнение.
Улетал Ромка утром восьмого. Два дня, второго и третьего, падал снег. Уже зимний. Настоящий. Вился, перевивался за окном белой марлей штор наоборот. Пятого в дворовой хоккейной коробке, прямо под окном залили лед. Ромка сходил за угол в магазин «Буревестник» и купил Димке стальные лезвия для валенок, а свои собственные звонкие «канадки», которые забыл вернуть кому-то из еще университетских товарищей, занес в огромный склад-мастерскую за магазином. И там с поправки духовитый мастер их наточил. Полтинничек – один желобок. Итого рупчик. Обед с пивком.
Катались шестого и седьмого. Димок – первый раз в жизни, но неплохо, на голову упал всего лишь один раз. Правда, сразу. Стукнулся затылком. Заплакал, да такими горькими, большими Маринкиными слезами, что Ромка уже думал, перевалится сейчас через деревянный бортик, отойдет в сторонку и будет там стоять беззвучным указателем «к дому». Но нет. Поднялся, подержался за деревяшку и, храбро оттолкнувшись, сделал попытку номер два. Упал на бок. Очень аккуратно и правильно. И второй раз также, и третий. Все дальше уезжал, все больше и больше оставляя на льду нетронутой снежной крупки, сольцы, между блестящим зализами падений.
И от всего этого – и быстроты понимания, и, главное, настойчивости большелобого бобика, молчаливого желания добиться своего последовательностью и упорством – такое родство, такое единство с сыночком ощущал Роман, что летал вокруг него кругами, смешил, подхватывал, дышал в соленый нос и думал. Все те же мысли носились космонавтами, Белкой и Стрелкой:
«Все будет, все будет... Так уж мы устроены, Подцепы, все сразу не заглатываем, но по кусочку, по кусочку, зато до самой последней крошки, до капли, дочиста съедаем. Никому и ничего не останется».
– Папа, я лучше стал стоять? – спросил Димок седьмого, когда лезвия уже отвязали и он на устойчивых, подшитых валенках, хрустя снежком, шел с Ромкой рядом.
– Лучше. Даже кататься немножко начал.
– Я каждый день теперь буду. По вечерам с мамой. Выходить и кататься.
– Молодец, так совсем уже быстро научишься.
– И ты мне тогда купишь коньки? Да? Настоящие, как у тебя? – быстро спросил малыш, подняв голову. Глаза у него были синими-синими.
– Обязательно. Очень скоро. В Москве.
– В Москве? – переспросил. – А, ну да... в Москве...
Смешной, ничего не понял. Маленький мальчик. Но и Маринка ведь не сразу поняла. Большая девочка.
– Ну и что ты думаешь, позвонила же моя свинная рожа, спросила, почему не была на демонстрации.
– Ну а ты?
– Сказала, что Димок приболел.
– Все верно, у него острый приступ ледовой болезни.
– У него да, а вот у меня, я чувствую, девятого будет острый приступ ушной.
– Не будет. Это у твоей сальной будет приступ глазной.
– В каком это смысле?
– В прямом. Ты ей в понедельник напишешь заявление.
– Какое?
– Об увольнении.
Чайник, шипевший на плите, именно в эту секунду фыркнул и засвистел. Курчаво. Очень смешно. Поймал вора дурачок. Но ощущение какой-то протокольной cтрогости, ментовской однозначности момента возникло, и от этого, наверное, Ромка был очень краток, внятен и решителен:
– С первого января у меня будет отдельная комната. Гостинка. И кухонька своя, и ванная.
– Это хорошо. А жить на что будем?
– Очень просто. На полигоне есть старая прохоровская «Эрика». Стоит еще с тех пор, как он туда с ночевками ездил. Никому не нужная. Попрошу у шефа, почищу, смажу, и все. Печатать в нашей общаге нужно всем. Машинстки в институте просят полтинник за лист, а ты будешь брать сорок копеек.
– А Дима?
– Дима едет с нами, – просто сказал Роман, – там, в Миляжково, тоже есть хоккейная коробка. На пустыре, как раз напротив главного корпуса.
Маринка раскраснелась, и глаза ее стали синими. Синими и замечательными, как у сына, у сына Димы, но «да», простое «да», она не говорила.
Спрашивала, а как тогда непрерывность трудового стажа и что случится с институской очередью...