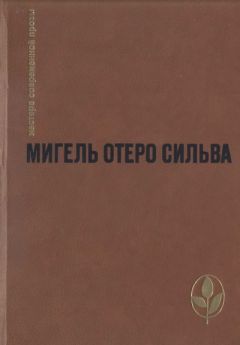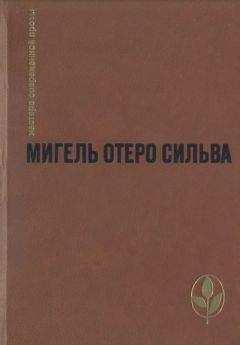— Мы как-то угнали отличную машину, «линкольн», цвета морской волны. — Фредди прерывает молчание, чтобы рассказать о том самом нападении на ресторан «Ла Эстансия», о котором в таких игривых тонах сообщала хроника самых солидных газет. — Летучая Мышь высадил нас на углу и остался ждать с включенным мотором, а мы семеро быстренько шмыгнули в дверь, которая, будь она неладна, вела не в ресторан, а в какую-то забегаловку, сообщающуюся с рестораном. Мы тогда не готовились как следует, в ту пору мы были просто озорные парни, и больше ничего. Ну что ж, ребята, вперед! Мы прошли через эту забегаловку, которая была еще темной и пустой в девять вечера, и по длинному коридору проникли в бар ресторана, а в баре — весь пол в коврах, ни одного шага нашего не слышно. Народу было там порядочно, и шуму немало, кроме того, какие-то важные типы — из какой-то машиностроительной компании или металлургической, откуда я знаю, устроили банкет, справляли какую-то свою идиотскую годовщину. Красавчик был во главе нашей ватаги, командовал операцией с «томпсоном» наготове. Он как гаркнет на весь зал: Мы из Главного полицейского управления, из Дихеполя, и должны произвести обыск, нам известно, что здесь потребляют кокаин и другие наркотики! Я с ходу ринулся к полковнику в мундире, который говорил по телефону; в один миг левой рукой дал отбой, а правой ткнул пистолет ему в ребра и сказал этак ласково: Выкладывайте оружие и не двигайтесь. Труднее пришлось с поваром, который в трех шагах от меня жарил цыплят; он никак не хотел от них оторваться: Они же пережарятся, — и мне пришлось стукнуть его как следует по башке рукояткой пистолета, чтобы он наконец бросил своих цыплят и пошел со мной, в общем, повар возглавил ту банду трусливых мозгляков. Там был и жандарм — этот жандарм за милую душу проглотил, что мы тайные агенты, подобострастно обратился к Красавчику и извинился, что этой ночью забыл свой револьвер дома, — еще одна заячья душа. Было там человек сто, а нас всего семеро, я вам уже говорил. Был там и дипломат в черной тройке, он решил шутки шутить с Дихеполем: Я не позволю, чтобы полиция меня обыскивала, сказал он. Красавчик нацелил ему «томпсон» прямо в пузо и ответил: Можете завтра жаловаться в наше управление, господин посол, — и господин посол понял, что мы можем укокошить его, и дал себя обыскать. Пытались выкобениваться — остальные уже в штаны наложили — только две сеньоры, еще довольно свеженькие. Они насмешливо называли нас задиристыми мальчишками и нагло на нас поглядывали, пока Жирный Попугай не рассвирепел и не заорал на них: Чего на нас пялитесь, вы, шлюхи! — Тогда они сразу присмирели. Кроме «томпсона», которым орудовал Красавчик, у нас с собой были еще две девятимиллиметровки, одна «никелировка» сорок пятого и две «пушки» тридцать восьмого калибра, не считая хорошенькой штучки, которую я отобрал у прохвоста полковника с обещанием возвратить по окончании обыска. Даю тебе слово, полковник. А удовольствие, прямо скажем, было ниже среднего — согнать все это стадо и построить в шеренгу, чтобы удобнее было работать. Операция, которую мы планировали на пятнадцать минут, отняла у нас почти час. И тут еще вваливается парочка в обнимку, он сразу почуял, что происходит что-то странное, и выдавил из себя улыбочку: Лучше пойдем в другое место, любовь моя. Но на них в упор нацелился «сорок пятый» Лапо Виктора: Здесь для вас самое место! — Потом Жирный Попугай углядел сочное жаркое на одном из столов — с салатом, с жареной картошкой, все как положено, — а он не успел пообедать. Уселся за стол и все слопал в полминуты, за это на следующий день ему дали взбучку — мы ведь тоже как черти были голодные. Наконец, угрожая оружием, мы сумели всех, кто там был — посетителей, официантов, служащих, — оттеснить к стенам зала, и Верзила Родольфо решил напоследок повеселиться: А что, если нам поставить их на колени? — Какой-то насмерть перепуганный посетитель в коричневых брюках, а может, они стали коричневыми от страха, услышал это пожелание и по собственной инициативе обратился к толпе: Дамы и господа, агенты хотят, чтобы мы встали на колени! — И тут же всем скопом они кинулись на пол, как в церкви; эта сцена не входила в наш план, клянусь жизнью матери, но Красавчик решил воспользоваться этим и крикнул: Никакая мы не полиция, мы налетчики, выкладывайте бумажники и драгоценности или получите пулю в лоб. Никто и не пикнул. Правда, полковник было заартачился, но я ему снова ткнул револьвером в бок, да еще одна толстуха прогнусавила антипатриотические слова: И это происходит у нас, в Венесуэле! — Верзила Родольфо и Жирный Попугай собрали барахло, урожай был неплохой, сорок тысяч боливаров наличными, ценностей навалом, часов — целая куча. Мы упрятали добычу в три чемодана, которые были у нас с собой, и на следующий день все передали в организацию. Вплоть до последней сережки. Нас было восемь полумертвых от голода, считая Летучую Мышь, — шесть учащихся Технической школы и двое безработных, то, что называется из необеспеченных слоев общества, — но мы полагали позорным взять хоть один сентаво, который принадлежит революции; хотя иногда бывает и по-другому, и вы, и я об этом знаем. Ну, в общем, операция окончилась, Красавчик сказал: Пойду, прикажу нашим патрульным на улице, чтобы стреляли из пулеметов по каждому, кто попытается нас преследовать; он сказал это очень громко и дважды повторил, потом пошел к двери на улицу, через которую мы должны были выйти. Мы отходили за ним не спеша, держа на мушке все скопище, но когда подошли к автомашине Летучей Мыши, то одного не досчитались. Пропал Монсеньор, сказал Верзила Родольфо. Вся беда была в том, что, пока мы выясняли, все ли здесь, и обнаружили, что нет Монсеньора, наш «линкольн» уже успел отъехать на добрых полквартала, и мы не знали, остался ли Монсеньор в ресторане или исчез еще во время операции — такое тоже бывает, — словом, черт его знает что случилось с Монсеньором. Сейчас уже поздно возвращаться искать его, сказал Красавчик. Пошел он к…! — сказал Лапо Виктор, и мы покатили к университету. А этот паразит Монсеньор преспокойно подошел к нам через полчаса в коридоре около главной аудитории. Свое исчезновение он объяснил тем, что обыскивал верхний этаж, когда Красавчик дал приказ отходить, и ничего не слышал. Ей-богу, не слышал, сказал Монсеньор, я спустился по лестнице вниз, а они все еще стоят на коленях, никто не думает и пальцем шевельнуть, ни дать ни взять — собор святого Петра в Риме. Тогда, сказал Монсеньор, выхожу я на улицу и беру такси, которое подвозит меня сюда, прямо к звонку, за три боливара, которые Красавчик одолжил мне сегодня утром. Вот и весь рассказ, дайте сигару, говорит Фредди.
Это нападение во вкусе Рокамболя на освещенный ресторан, эта живописная сцена с коленопреклоненной публикой — все это ерунда, мы действительно были озорными мальчишками, говорит тихо Фредди; все эти смехотворные выходки уже в прошлом. Сейчас словари выплевывают более страшные словечки: ненависть, избиение, расстрел, репрессии, раны, тайная полиция, горе, умри! штык, тюрьма, Качино, Ла-Исла, Сан-Карлос, Эль-Вихия [89], шрам, автомат, полуавтомат, пистолет, лагерь, «кольт», сдавайся! агония, похороны, шпик, ссылка, допрос, молчать! голод, кладбище, команда, жажда, кровь, огонь! тайная сходка, страх, донос, расстрел, убивать. Кто начал убивать? Они начали преследовать, они начали убивать, мы прибегли к насилию, чтобы защищаться, а потом насилие стало всеобщим, превратилось в систему, стало насущным, как хлеб, как воздух. Чужая жизнь стоит два сентаво, не больше. Собственная жизнь стоит четыре сентаво, чуть больше. Книги и гимны обратились в наши выстрелы, в их залпы. Они помещают на страницах большой прессы фотографии своих убитых. Полицейских агентов или жандармов с размозженными черепами, в залитых кровью мундирах, вдов и сирот, обливающихся слезами на похоронах по третьему разряду. Мы публикуем в размноженных на мимеографе листовках списки павших товарищей, погибших в бою, расстрелянных в горах, повешенных на деревьях, умерших под пытками, тех, кто покончил с собой, — они числятся самоубийцами, но…
Командир Белармино участвовал в вооруженном нападении (сам он никогда и никому об этом не рассказывал, а мне и не надо, чтобы он об этом рассказывал, я читал в газете описание человека, который командовал операцией; я обратил внимание на то, как протекала эта операция, и могу поклясться, что руководил ею Белармино). Он участвовал в вооруженном нападении, где убил четырех человек: двух кассиров и двух клиентов — эти отказались поднять руки вверх, один из них полез за чем-то в карман, командир уложил их на месте пулеметной очередью. Без сомнения, это был Белармино. Газеты поместили на последней полосе фотографии трупов в распахнутых рубахах, чтобы все видели пулевые раны на шеях. Убитые лежали на окровавленных простынях — лица бледные и заострившиеся, как восковые. О других товарищах, здесь присутствующих, я почти ничего не знаю, за исключением Валентина — он мой друг, мой однокашник. Валентин лишь водит машину, ждет в двадцати метрах от места операции и никогда ни в кого не стрелял — так он мне говорил. Что касается меня, то я, кажется, убил одного полицейского, когда проводили митинг в районе Ла-Чарнека. Товарищи обращались с речами к народу и раздавали листовки: Да здравствует новое правительство! — Барретико и я страховали операцию, засев в подвале за углом. Вдруг откуда ни возьмись бежит с шашкой наголо этот дурачок полицейский, наверное из новичков, — болван зачем-то сунулся один и без всякой надобности в район, уже захваченный силами ФАЛН. Барретико и я выстрелили одновременно, с пятиметровой дистанции. Он хлопнулся головой прямо в какой-то подъезд, а мы побежали объявлять тревогу. На следующий день в газетах был портрет увитого — один-единственный выстрел в правый висок, так говорилось в репортаже. Кто-то из нас плохо целился, потому я и употребляю слово «кажется», когда говорю, что убил полицейского. Барретико уверяет, что это была его пуля. Убитый — мулат по имени Хулио Мартинес, у него были три дочки и золотой зуб, как говорилось в репортаже, и один-единственный выстрел. Интересно, сразила ли кого-нибудь Карминья из своего автомата? Есть ли хоть один покойник на счету у Спартака, который избрал себе романтический псевдоним восставшего раба и всегда молчит и о чем-то думает, всегда, если представляется возможность помолчать и подумать.