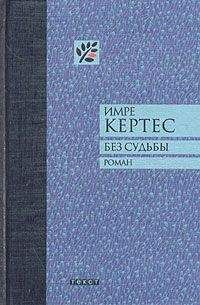– это одно из тех мест, о которых мы слышали еще в Освенциме: пациентов в таких местах холят, кормят, как на убой, а потом возьмут и – например – вынут из тела все внутренности, до последней жилки: для изучения, для науки. Но конечно – ты не можешь этого не признать, – это всего лишь домысел, лишь одна из множества возможностей; да и кормежкой «как на убой», собственно, что-то пока не пахнет. Более того – подумалось мне, – там, в лагере, давно уже пришел час, когда раздают баланду, здесь же пока – ни намека, ни звука, ни запаха. Мне и тут пришла в голову одна мысль, мысль, может быть, немного сомнительная, – но, Господи Боже мой, кто может судить, что следует считать возможным и достоверным, кто способен до конца исчерпать, без остатка представить все те бесчисленные идеи, находки, игры, шутки и достойные обсуждения замыслы, которые могут быть, все-все, осуществлены, реализованы в концентрационном лагере, из мира фантазии играючи перенесены в действительность? Предположим – размышлял я, – тебя, например, помещают в такую вот палату. Укладывают, скажем, в такую вот постель с настоящим одеялом. Ухаживают за тобой, заботятся, во всем тебе угождают – только вот есть не дают. Если угодно, можно, например, понаблюдать, кто как умирает от голода: в конце концов, это тоже ведь, наверно, по-своему интересно, а то и, Бог его знает, в каком-то высоком смысле полезно. Почему бы и нет, не мог я не признать. Я крутил эту мысль по-разному, и она казалась мне все более здравой, все более реальной: если мне пришло это в голову, то ведь оно могло, очевидно, прийти в голову и кому-нибудь более компетентному, думалось мне. Я принялся разглядывать соседа, который лежал слева, примерно в метре от меня. Это был немолодой уже, лысоватый дядечка, лицо его еще сохраняло какие-то человеческие черты, да и плоть на нем еще оставалась. При всем том я заметил, что уши его начинают слегка напоминать восковые листочки на стеблях иных бумажных цветов; весьма знакомым был мне и желтоватый оттенок на кончике носа и на коже около глаз. Он лежал на спине, одеяло на его груди слабо приподнималось и опадало: он, видимо, спал. На всякий случай я для пробы шепнул в его сторону: мол, как насчет венгерского? Ничего; он, как видно, не только не понимал венгерского, но и вообще меня не слышал. Я отвернулся
– и уже готовился дальше плести свои мысли, когда до меня вдруг донесся тихий, но четкий ответ: «Да…» Это произнес он, вне всяких сомнений, хотя глаз при этом не открыл и позы не изменил. Я же, совершенно по-дурацки, так обрадовался – сам не ведая почему – его ответу, что на пару минут забыл, что мне, собственно, от него надо. «Вы откуда?» – спросил я, и он, после паузы, которая опять показалась мне бесконечной, сказал: «Из Будапешта». – «Когда?» – поинтересовался я и, набравшись терпения, дождался-таки ответа: «В ноябре…» И тут я наконец задал свой вопрос: «А есть-то тут дают?» И опять он лишь по прошествии некоторого времени – для чего, видимо, была какая-то веская причина – ответил: «Нет…» Я спросил…
Но как раз в этот момент снова вошел Pfleger – и направился прямиком к моему соседу. Он завернул моего соседа в одеяло, и я только рот разинул, глядя, как легко он вскинул на плечо и вынес в дверь его довольно еще тяжелое – я лишь сейчас это увидел – тело, на животе которого висел, как бы помахав мне на прощание, лоскуток отклеившейся бумажной повязки. В тот же момент послышался громкий щелчок, потом – электрическое потрескивание, смешанное с каким-то шипением. Затем послышался голос: «Friseure zum Bad, Friseure zum Bad», то есть: парикмахеры – к бане, парикмахеры – к бане. Голос был немного картавый, но вообще-то очень приятный, вкрадчивый, я бы сказал, гладящий, мягкий и мелодичный, из тех, за которым ты почти чувствуешь взгляд говорящего; но в первое мгновение он меня так ошеломил, что я едва не выпал из кровати. Однако других больных, я видел, событие это взволновало ровно в такой же степени, в какой перед этим – мое появление в палате, и я подумал, что подобные объявления наверняка относятся здесь к числу самых обычных, заурядных вещей. Я быстро обнаружил над дверью, с правой стороны, небольшую коричневую коробочку – что-то вроде репродуктора, и догадался, что, видимо, с помощью этого устройства комендатура лагеря передает откуда-то там свои распоряжения. Некоторое время спустя опять вошел Pfleger – и опять направился к соседней кровати. Он отвернул одеяло, простыню, через какую-то щель просунул руку в матрац; по тому, как он разровнял в нем солому, потом поправил и разгладил простыню и одеяло, я понял: да, вряд ли я когда-нибудь увижу еще раз того, кто лежал рядом. И воображение мое – я ничего не мог с этим поделать – опять-таки разыгралось: не в наказание ли его убрали, не за то ли, что он выдал секрет и этот его проступок – почему бы и нет? – с помощью такого же, как тот аппарат над дверью, или другого подобного устройства – или кто его знает, чего еще – подслушали и сделали выводы? Но тут я опять насторожил уши, услышав голос – на сей раз голос больного, лежавшего на третьей койке от меня, по направлению к окну. Это был очень худой, истощенный молодой человек с очень бледным лицом и густыми, светлыми, волнистыми волосами. Он дважды или трижды произнес, или скорее простонал, растягивая гласные, одно и то же слово, или скорее имя, как я постепенно все-таки разобрал: «Петька!.. Петька!..» На что Pfleger, тоже певуче, отозвался, причем довольно доброжелательным тоном: «Цо?» Больной произнес какую-то фразу подлиннее, и Петька – я понял, что так зовут санитара, – подошел к его койке. Он что-то долго шептал больному, с таким видом, с каким капризного ребенка уговаривают вести себя хорошо, потерпеть еще немного, быть паинькой. Стоя над ним, Петька сунул ему руку под спину, приподнял немного, поправил под ним подушку, подоткнул одеяло с боков, и все это охотно, дружелюбно, ласково – одним словом, так, что все это напрочь спутало, перевернуло предположения, которые я до сих пор строил. Ведь выражение, появившееся на этом, снова откинувшемся на подушку лице, нельзя было истолковать иначе, кроме как выражение покоя и некоторого облегчения, а сорвавшиеся с бледных губ, похожие на вздохи и все же хорошо различимые слова: «Дзенькуе… дзенькуе бардзо…» – как слова благодарности, если, конечно, я не ошибся. И уж окончательно опрокинул мои унылые размышления насчет того, что меня ждет здесь, тот донесшийся издали, потом все более близкий шум, потом проникшее уже отсюда, из коридора, погромыхивание, позвякива-ние, которое ни с чем нельзя спутать и которое всего меня будоражило, наполняло все возрастающим, все более необоримым ожиданием, заставив в конце концов забыть все подозрения: они просто-напросто растворились в трепетной, всепоглощающей готовности. И вот шум уже возле нашей двери, в коридоре шаги, стук деревянных подошв, потом нетерпеливый, густым голосом выкрик: «Заль зеке! Эсснхола!» – то есть: «Saal sechs! Essen-holen!» – что значит: «Шестая палата! За едой!» Pfleger вышел, с чьей-то помощью – я увидел только руки в дверном проеме – внес тяжелый котел, и палату до краев заполонил аромат горячей баланды; выходит, я все-таки ошибся в своих мрачных домыслах, выходит, все не так плохо – даже если сегодня нам достанется, как я чувствую, всего лишь «дёргемюзе», а если быть совсем точным, крапивный суп.
Позже я обнаружил и немало другого; по мере того как шли часы и из часов складывались дни, я постепенно многое для себя уяснил. Во всяком случае, спустя какое-то время, пускай по чуть-чуть, пускай осторожно, с оглядкой, но я не мог не принять очевидных фактов, не мог не признать, что – как выходило по всем признакам – такое тоже возможно, такое тоже достойно доверия – хотя и, нельзя не видеть, немного необычно, – ну и, конечно, приятно, но при этом, в сущности, если подумать, ничуть не более странно, чем любые прочие странности, которые (в конце концов, дело ведь происходит в концентрационном лагере) все как одна возможны и все как одна достойны доверия. Но с другой стороны, именно это меня смущало и беспокоило, именно это в известном смысле подрывало мою уверенность: ведь если смотреть на вещи с точки зрения разума и логики, то не было ни единой причины, не было никаких понятных, никаких знакомых, никаких приемлемых для моего рассудка объяснений, почему я нахожусь именно здесь, а не в другом месте. Мало– помалу я обнаружил, что все больные тут – с повязками, не так, как в предыдущем бараке, и тогда я рискнул сделать предположение, что в других палатах, возможно, лечат внутренние болезни, а здесь, наверное – хотя кто его знает, – находится хирургическое отделение; однако все-таки я никак не мог считать это достаточной предпосылкой и удовлетворительным объяснением всей той цепи событий, тех усилий, той, просто-таки согласованной работы рук, плеч, мыслей, которые – если я начинал их сопоставлять – в конце концов и привели меня сюда, в эту палату, на эту койку. Я пробовал рассмотреть больных, разобраться, кто они такие. Как правило, заметил я, в основном это заключенные давнишние, старожилы. Привилегированным я бы ни одного из них не назвал; хотя, с другой стороны, и с теми, с кем я работал в Цейце, их тоже трудно было сравнить. Со временем в глаза мне бросилась еще одна вещь: к ним, всегда в один и тот же вечерний час, заглядывали, на минуту-другую, на пару слов, посетители, причем на груди у них я видел сплошь красные треугольники и ни одного – не то чтобы мне этого не хватало, совсем нет – зеленого, например, или черного; однако – а вот это мне уже представлялось совсем непривычным – и желтых я среди них не встречал. Короче говоря, они были другими: по крови, по языку, по возрасту, – да и вообще в чем-то другими, не такими, как я или как любой из тех, кого я до сих пор всегда легко понимал, и обстоятельство это меня в какой-то мере стесняло. С другой стороны – этого я тоже не мог не чувствовать, – именно здесь где-то, пожалуй, может крыться и объяснение загадки. Вот, скажем, Петька: по вечерам мы засыпали, услышав его прощальное «добра ноц», по утрам с его «добре рано» просыпались. Поддержание безупречного порядка в палате, протирка полов влажной тряпкой, привязанной к палке, пополнение ящика с углем и поддержание огня в печке, раздача еды, мойка мисок и ложек, перетаскивание, когда в этом была необходимость, больных, выполнение множества – кто может их все перечислить? – прочих обязанностей – все это было делом его рук. Пускай лишних слов он не расточал, но улыбка, готовность помочь у него были для всех одинаковы; одним словом, он был словно бы и не исполнителем одной, пусть очень важной, функции, вроде привилегированного заключенного, которому поручено присматривать за палатой, но человеком, поставленным обслуживать больных, санитаром, сиделкой, Pfleger'oм – как в самом деле и значилось на его нарукавной повязке.