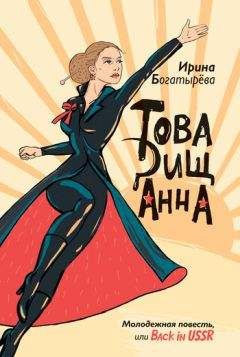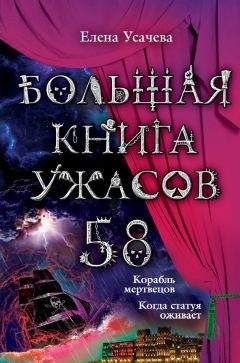Он поднялся и повернул регулятор кондиционера на плюс. Лег. Через некоторое время стало теплеть. Мила расслабилась и достала руки из-под одеяла.
А я помню – выпускной, что ли? Или так просто. В кабинете… русского… да. Музыка, а в коридоре так сумрачно, в школе нет никого больше, только наш класс, гулко, и шаги в коридоре громче, чем музыка. Шорк, шорк. Возле зеркала. Там еще цветы были, я все листья оборвала тогда. Костя… у них с Наташей сейчас двое. Позвал, идем, говорит, там места больше. Мы танцевали вальс. Господи, смешно вспомнить! Светка потом: чего ушли, целовались, что ли? А мы вальс танцевали…
Музыка вдруг отдалилась, и стало слышно, как булькает, шипит, крошится море за обшивкой. Она слушала его и плыла. Мягко, тихо. Пенно. Долго. Вдруг поняла, что Саввы нет, потом будто хлопнула дверь, и она открыла глаза.
7
«Если бы я вернулся в салон с этой сумкой, что бы я им сказал?» – думал гид. Никто не остается, не взяв с собой вещи. Это первый признак, что человек именно остался. Сам. Если вещей нет.
Впрочем, они же об этом не знают. А он не знал, что ему теперь делать.
Только в первый момент, когда, пересчитавшись после парома, салон сказал, что не все, он был спокоен. Он ли этого не ждал?
Пошел по проходу, считая по головам, с таким чувством, что выполняет формальность. Он даже искать их не будет. Зайдет за здание, покурит, подышит, вернется в автобус, скажет, что на пароме ничего не знают. Ведь так оно и есть: что там знают? А они молодые, не пропадут, да и вольному воля.
Но он дошел до конца, произнес вслух девятнадцать и остановился, глядя на девушек.
Так, будто это обман зрения. Бутафория. Восковые фигуры.
Они смотрели на него, не понимая.
– Кого у нас нет? – спросил у салона.
– Корнева, – услышал ответ.
Ему стало тревожно. Он подумал: это ничего, что Корнева нет, Корнев найдется. Но девушки на месте. Он понял, что не знает теперь, чего ожидать. Чего от них, этих людей, ожидать. А ведь казалось, что он всех их сразу прочел.
Вернулся к водителю, наклонился и сказал ему:
– Ты посмотри тут вокруг, я схожу на паром. – И к салону: – Я попрошу вас не расходиться. Долго мы не задержимся.
8
Савва вышел, как был, в халате, переодеваться не стал, боялся ее разбудить. Если она не будет спать, он уже не уйдет. Он знал это. Ему просто не захочется этого делать. Поднялся на верхнюю палубу на лифте. Холл перед регистратурой был пуст. Выше гремела дискотека. Савва обогнул фонтан и свернул налево, в узкий коридор, туда, где он заметил Выход .
У стеклянной двери стоял Корнев, ощупывал ее по периметру, отгибая пальцами резиновую прокладку. Обернулся и не удивился, увидев Савву.
– Заперли, видите? – сказал он и дернул ручку в подтверждение своих слов. – Ночь, – добавил он, – вот и заперли. Чтобы пьяные не шлялись.
Савва подошел к Корневу, и они стали вместе, прижавшись лбами к прохладному стеклу, смотреть. Снаружи была металлическая, серого цвета мокрая палуба, за ней – совершенная ночь.
– Ничего не видно, вот ведь как, – сказал Корнев. – Есть там чего, нет ли – не видно.
Свет с парома вырвал еще полметра воздуха за бортом, и в нем блестели, пролетая слева направо, мокрые хлопья, ядовито-белые на фоне абсолютной черноты. Так становилось понятно, что за стеклом ветер. Что паром движется, чувствовалось только по вибрации.
– Знаешь, что я здесь каждый день вспоминаю? – вдруг спросил Корнев, не отводя все так же взгляда от зияющей черноты. – Как меня дед косить учил. Он меня брал с собою, и мы там с утра – до обеда. Я помню это – идешь с косой, в голове уже ни одной мысли, краем глаза ловишь деда, далеко ли ушел – впереди и справа. И все за косой следишь.
– Идти надо ровно, чисто, ритмично. Чирк. Чирк. Чирк. Мягко, как в масло. И над землей чуть-чуть только, – продолжил Савва.
Они обернулись друг к другу. Корнев был трезв, Савва это запомнил.
– Потом в тень шли, – сказал Корнев. – И пили квас. Он лежал в лопухах под березой.
– Ели бутерброды и зеленый лук.
– Жареную курицу и вареную картошку. Холодную, скользкую.
– С солью.
– Потом лежали. Ни о чем не говорили, в небо глядели.
– Тело ныло. Я о речке мечтал.
– Это очень заманчиво, о чем ты говоришь, – услышали они у фонтана женский голос, по-английски. Из лифта вышли два молодых человека – и две девушки из их автобуса. – Но я боюсь, что завтра мы будем уже в другой стране. Но ведь мы подумаем, правда, Света?
– Правда, подумаем, – сказала та, и обе засмеялись. Поднялись по лестнице и скрылись за дверью в дискозал.
Савва рассеянно похлопал по карманам своего халата. Корнев тронул его за плечо и протянул сигареты. Курили молча, друг на друга не смотрели.
– Она правда закрыта, Савва. Или, может, это не тот выход, что мы искали.
– Тот.
– Значит, не для нас. – Корнев отчего-то усмехнулся. Бросил окурок в урну, стоящую в пяти шагах. Попал. – Иди к жене. Все еще наладится.
Заходя в лифт, Савва подумал, что все еще действительно может быть по-другому.
9
Ему сказали: если человек пропал, давайте обращаться в полицию. Если это его вещи. Гид смотрел на электробритву, бледно-рыжую зубную щетку и пасту. На щетке и пасте ни слова по-русски. Только бритва старая, сразу видно, что советская. Впрочем, откуда им это знать.
Я не знаю, его ли это вещи, ответил он.
Если он объявится и вы узнаете, что это его вещи, имейте в виду, они будут храниться у нас в отделе пропаж.
Хорошо, сказал он по-фински и вышел с твердой уверенностью, что Корнева не увидит больше никогда. Что-то подсказывало, что он не просто отстал от автобуса. Исчез с парома. Что это было задумано заранее. Вот только зачем – и зачем так сложно? Чужая душа – потемки, подумал гид. Он хоть бы вещи с собой прихватил. Чтобы совсем чисто было. Впрочем, он же не знал…
А на том свете зачем ему бритва.
И, уже спускаясь с парома, положил руку в карман и обнаружил там зубную щетку.
На которой ни слова по-русски. На которой вообще ни слова.
10
– Ты выходил? Я, кажется, задремала, – сказала Мила. Савва промолчал. Он сидел на своей кровати в халате канареечного цвета. Его купили в прошлом году, он был ему чуть ниже колен. Очень смешной.
Музыка все еще звучала. Только тише и медленней . У нас это называлось медляк. Обняться и медленно так, медленно танцевать. Если пригласят. А все стеснялись и не приглашали. Море было слышно тоже. Музыка с морем. С крошащимся льдом, пеной вдоль борта. Музыка в глубине черноты.
Давай танцевать.
Может быть, он это и сказал вслух, но она задремала и услышала как-то иначе, будто бы в собственной голове. Очнулась. Он протягивал ей руку.
Встали вплотную, она – ладони ему на плечи, он – ей на талию. Покачиваясь, переступая с ноги на ногу, стали вращаться в тесном проходе между кроватями. Он – в тапочках, в канареечном халате, который чуть ниже колен, она – босая, на сером ковролине, шершавом и колком, просвечивая белым телом через длиннополую ночную рубашку. Спрятав лицо у него на плече.
Как давно, как давно… Уже и не вспомнить когда.
– Ты что, плачешь?
– Я? Нет. Это на халате у тебя вода. Откуда – вода?
Холодное море качалось рядом с ними, невидимое, в такт.
11
Туристы по очереди подходили к нему прощаться, гид отвечал и улыбался всем. В Питер прибыли как штык – в половине пятого, несмотря на полуторачасовую задержку после парома. Бледные, очень уставшие после ночной дороги, они выходили из автобуса, забирали вещи и медленно растворялись во мраке, желтом вязком свете фонарей, среди таксистов, крутившихся рядом. Другие шли через дорогу, на Московский вокзал. Он видел, как они потянулись туда друг за другом так же, как ходили за границей. Это синдром. Это пройдет.
– Всего доброго, – подошла к нему Мила. – Спасибо вам.
– Удачи. – Савва пожал руку. – Была отличная поездка. Мы получили все, что хотели.
Добрые пустые слова. Полная формальность. Гид улыбнулся, сказал «спасибо» и подумал: конечно, ведь все это делалось только для вас.
Да, я так и понял, – ответил Савва одними глазами.
Это было где-то в смутных просторах нашей безграничной родины. Я продвигалась по ней автостопом из пункта А в пункт Б. Продвигалась не одна, с напарником, задумчивым худощавым мальчиком, предложенным мне в качестве попутчика добросердечными хозяевами квартиры, где была моя последняя остановка. Нам было по пути. Мы ехали медленно, лето выдалось жарким, асфальт плавился и проминался под гружеными фурами, радиаторы закипали. Как загнанных лошадей, мы оставили в один день две закипевшие машины, бросив их на произвол их собственной дорожной судьбы: дело было в поволжских степях, никакой воды близко от трассы, надо было ждать, пока остынет, а мы очень спешили – что еще было делать? Мы оставляли их и ехали дальше, но дорога не прощает эгоизма: в конце концов подбирать нас перестали совсем.