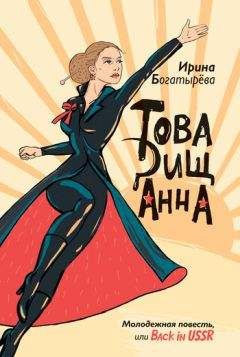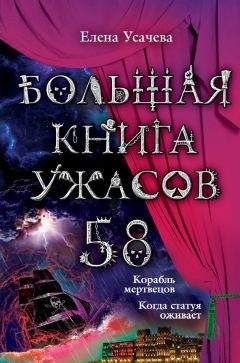– Это у брата было, – говорил Владик, уже оклемавшись. Он был теперь тихий, маленький, жалкий. – Припадки. Ему пить совсем нельзя было. И машину водить – нельзя. Но он водил все равно, осторожно и только «девятку» свою. А пить – ни-ни. Он тогда в первый раз выпил. От него жена ушла, вот он и выпил. Да разве это выпил – так, хлебнул пива, мужики в цеху налили, пятница была, они удивились еще, а он ничего не сказал и поехал. Он ко мне ехал тогда… Я думаю, с ним так же вот вышло.
Я молчала. Все то же самое совсем недавно шептал мне его брат, оправдываясь и прощаясь, но я не запоминала, мне было мутно. Теперь, от повторения ли, от живого ли грустного голоса, мне стало тоскливо и холодно. Мы сидели рядом, спиной к дороге. Машины ездили редко. Местность была холмистая, перед нами под уклон шло заброшенное поле, чуть дальше загорался в косых лучах вечернего солнца перелесок и бросал на дорогу длинную сильную тень.
– У тебя часто это?
– Что? А, это? Нет. Вообще до того, как брат погиб, не было. Он старше был. Гены, говорят. Но так, нечасто. Совсем… Не знаю, с чего сейчас. Фигня какая-то, не пил ведь. Может, от тебя перенервничал. Горячая ты девчонка. – Он усмехнулся криво.
– Болит сейчас что-нибудь?
– Нет. Хотя да. Башка. Вот тут.
Я поднялась, встала позади него и стала лечить, как умела – руками, легким массажем. Он расслабился, забалдел. Откинулся и уткнулся макушкой мне в колени. Через десять минут я спросила:
– Ну как?
– Ништяк, – протянул он, потом открыл глаза и посмотрел снизу, лукаво: – Кайф, как будто мы с тобой уже переспали.
Я шлепнула его по лбу и ушла в машину. Думала забрать рюкзак и распрощаться. Но в сумерках трасса опустела, а палатки у меня не было. Голосовать ночью одной – это хуже, чем ехать с озабоченным драйвером. Ведь дорога – как рулетка, никогда не знаешь, что подсунет она тебе в следующий раз. Здесь же я хоть как-то владею ситуацией.
Владик ходил через дорогу в кусты, вернулся опять бледный, с истерической усмешкой, словно нашел там труп. Я спросила, чего там, но он не ответил, тут же завелся и покатил дальше. Только отъехав несколько километров, сказал:
– А ты мне жизнь спасла, знаешь?
– Что так?
– А там слева карьер, песок берут, метров двадцать, прям у дороги. Нелегалы, мать их, поди, копали, знаков-то нет никаких. Так и не засыпали, уроды.
Мы ехали с ним полночи. В три остановились у кафешки с хорошей ночной стоянкой для фур. В пустой гулкой столовке мне было неуютно. Баба за стойкой смотрела на меня нахально, как на конкурентку. Я сжалась. Владик накормил меня, и мы ушли спать в машину.
– Иди сюда, не бойся, не трону, – сказал он, и мы легли вместе на его постельную полку, сложив мой рюкзак на сиденье. Укрылись одним колючим одеялом.
Он скоро уснул. Посапывал и гладил меня по спине, обнимая. Что-то при этом бормотал. Мне было тесно, душно. Стекла запотели изнутри. На улице был туман. Занимался рассвет, и мне мерещилось через стекло лицо Владикова брата, хотя я знала, что его там уже не было.
Он проснулся через три часа – как и обещал. Удивился, что я не сплю.
– Ты чего?
– Жарко.
– Колдуешь небось, – усмехнулся он и добавил скептически: – Ведьма…
Я почуяла, что все, что случилось накануне, сошло с него, как с гуся вода. Рабочая, крепкая психика с трудом принимала перемены. Я упускала из рук те вожжи, что схватила вчера. Успокаивало только то, что ехать оставалось чуть-чуть.
Он сунул мне десятку, велел купить себе кофе.
– А ты что-то хочешь?
– Тебя, – ответил угрюмо.
Я не стала больше разговаривать. Кофе не хотелось, а встречаться с теткой в кафешке – еще больше. Я сунула десятку в карман, сбегала в вонючую кабинку, погуляла на росистой лужайке за кафе и вернулась. Владик уже завелся и курил в форточку.
– Что так долго? Там пила, что ли? Ну, поехали.
Почти всю дорогу мы ехали молча. Владик меня как будто стеснялся – меня или своей вчерашней слабости. Был предельно груб, говорил исключительно матом. Позвонил жене, сказал, что скоро будет, пусть готовит жрать. Ему позвонил начальник, наорал, что он сбился с графика и давно должен быть на месте. Владик кинул трубку на панель, молчал и сказал после недовольно:
– Что ты там говорила вчера: если уволит, я лучше работу найду? Так может, самому уйти, а? Чего ждать-то?
Я промолчала. Он погружался обратно в свой быт. Я снова была просто девочкой с трассы, подбросил – и оставил, забыл, мне не хотелось влезать в его жизнь.
Он высадил меня у поворота на свой город. Подал рюкзак. Пока я возилась с ним, закурил и не уезжал, щурился, на меня глядя. Мне это мешало, хотелось распрощаться скорее, я уже стремилась вперед, уже выглядывала новую удобную позицию для стопа.
– Ну, прощевай, что ли, ведьма? – подчеркнуто развязано сказал он. – Зря все-таки мы с тобой не покувыркались. Бестолково вышло. Глядишь, вся жизнь моя бы исправилась.
Он шумно хмыкнул, хлопнул дверью и укатил.
1
Было это прошлым летом.
Макс, мой хороший интернетный знакомый, написал, что наш общий с ним (тоже интернетный) приятель впал в кому. Ему об этом сообщила его, приятеля, сестра.
Макс писал буднично, и я приняла это как должное. И дело было не в том, что юношу этого мы никогда не видели. Знакомство с ним было случайным, но бурным: писали по нескольку писем в день, быстро стали друг друга понимать, быстро друг к другу привыкли. Потом оказалось, что таким же образом он вошел в жизнь еще десятка моих знакомых и знакомых знакомых. Он был хорошим собеседником: интересен, начитан, в меру напорист. И с каждым находил общую тему для переписки. Многие потом писали мне, что это было одно из приятнейших знакомств.
На фоне такой общей к нему расположенности известие о том, что пишет он из больницы, что ему осталось несколько месяцев жизни, прозвучало как гром. Переписка стала еще более обширной, жизнь приобрела краски трагические, звенящие. Юноша лечился в Израиле, куда его отправили уже отчаявшиеся родственники; я настроила себе на домашней страничке баннер с погодой в Тель-Авиве, ежедневно читала сводку тамошних новостей и стала разбираться в их делах гораздо лучше, чем в наших. Казалось, хоть это сближает с ним.
Но вот он впал в кому. Об этом с его ящика написали безутешные родственники. Они просили молиться за него всем богам, до которых мы только могли достучаться. В этой просьбе от надежды оставался только отсвет.
Потянулись дни тяжелейшего ожидания. В эти дни мы с Максом боялись упомянуть его имя. Где-то там он стоял перед лицом суда, строгого и безжалостного, и мы боялись лишний раз потревожить, нарушить сосредоточенное внимание этой страдающей души.
Но он вернулся. Переписка возобновилась с новой силой. На вопрос: «Что там ?» – он не отвечал, да больше одного раза никто и не спрашивал: это казалось нетактичным.
Потом история повторилась, и с тем же исходом. Опять мы все, в общем-то чужие люди, связанные только нитью этого знакомства, обмерли и забыли дышать. Но облегченно принялись снова, только получив письма с двумя словами: «Я вернулся».
Возвращаясь, он опять был самим собой, будто ничего не происходило. Только иногда, в каких-то тяжелых состояниях отката, принимался вспоминать друзей и родных, уже отошедших в мир иной, и писал, что всю жизнь чует, будто его зовут туда, тянут, манят… Ему не мерещились голоса, но он чувствовал, что там ему будет лучше. Казалось, смерть его уже не пугала.
Ему было двадцать два. Эти стариковские разговоры ужасно не шли ему, как, впрочем, и сама обреченность. Но, конечно, мы это прощали. На все попытки внушить ему, что заглядывать туда не стоит, что надо бороться, жить, он отмалчивался. Наверное, не хотел слушать.
И кома последовала опять и опять. Как будто кто-то вгонял нас в напряжение, стоило только расслабиться. Как будто гигантское, общее на всех сердце билось аритмично, с перебоями.
Когда это случилось снова, я поняла, что больше не могу. Не было сил ждать его снова оттуда , а главное, укоренилось чувство, что нас дурят. Что юноша этот просто сидит где-то, совершенно здоровый, и нравится ему ощущать такое мировое сердцебиение, нравится управлять этим током направленной к нему любви. Я понимала, что, будь даже так, я бы на него не обиделась. Это было бы лучше, для него, юноши, точно было бы лучше так играть с собственной жизнью, чем лежа под капельницей в израильском госпитале.
В том же письме Макс пригласил меня к себе в гости, на дачу. «Надо от него оторваться, – написал он. – А там Интернета нет», – добавил, пригвоздив подмигивающий смайлик.
Оставив приятеля его собственной совести, суду и судьбе, я вырвалась из этой интернетной сцепки и отправилась к Максу.
2
Максова дача – крохотный двухэтажный домик, затесавшийся в рядах таких же на полуострове между широкой Волгой и узким заливом. На фото со спутника залив напоминал серп. Хозяева в доме появлялись нечасто. Участок был похож на джунгли, с разросшимися до неузнаваемости кустами помидоров, лианами огурцов и неисчислимыми сорняками. В домике было всего две комнаты, кухонька при входе и веранда на втором этаже. Везде держался запах запустения, пересушенного лука и намокшей древесины. Половина веранды была завалена старыми детскими книжками, потрепанными, с картинками, и я заглядывалась на них в надежде сесть и пролистать – вдруг встретится что-нибудь родное, ностальгическое, свидетельствующее об общих точках в моем и Максовом детстве.