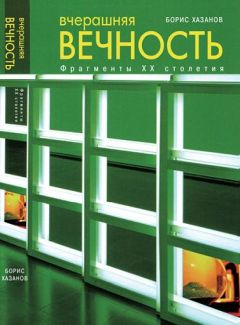“Да, мы не виделись тысячу лет. Как ты жил эти годы? – Она озирала убогое жильё, покачивала маленькой лысеющей головой. – Кажется, ты не слишком преуспел в жизни... или я ошибаюсь? Господа, помогите мне выбраться”.
Вдвоём подхватили старушку, усадили на табурет, где перед этим сидела юная слушательница. Доктор Каценеленбоген опустился в освободившуюся каталку. Подняв остатки некогда соболиных бровей, Анна Яковлевна поглядывает на стол, на исписанные и исчёрканные страницы.
На ней длинное тёмное платье, вязаная кофта, она встряхивает перед ухом спичечным коробком, как бывало, и, конечно, ни одной спички не осталось; доктор, приподнявшись, протягивает ей факел зажигалки. Запах бензина, дивный аромат дешёвых папирос. Мальчик ёрзает на диване, убедительная просьба не забираться с ногами! Всю зиму снег свозили с переулка во двор, снег стоит горой в венецианском окне, в комнате бело, и в углу за комодом нагая дама никак не может выбраться из бокала.
Дым тонкой струйкой вытекает из увядших уст Анны Яковлевны. Чёрный дым вылетает толчками из прямоугольной трубы крематория. Кто это изготовляет такие скверные папиросы?
“Дукат, – сказал писатель, – по-моему, фабрика существует до сих пор”.
“Странно. Ведь дукат – это от слова ducatum. Ты куришь?”
“В лагере курил. Махру”.
“Qu’est-ce que c’est que cette махра?”
“Махорка”, – пояснил доктор Каценеленбоген.
“Ну, рассказывай, я хочу знать”.
Что рассказывать? О чём? Писатель пожимает плечами.
“Когда вы вернулись?”
“Я один вернулся. Сбежал из эвакуации”.
“Да, да, конечно... память, память стала никуда”, – кряхтит Анна Яковлевна и кивает сморщенной старушечьей головой.
“А мама в конце войны”.
И так как за этим должен последовать другой вопрос, он объясняет: Донской монастырь. Недалеко от...
“От меня, – сказала Анна Яковлевна, – можешь не стесняться. А твой отец?”
“Мой отец пропал без вести. Зимой сорок первого”.
“Да, да, – вздыхает она. – Страшная зима. Не правда ли, доктор?”
“Вы правы, дорогая, – сказал доктор Каценеленбоген. – Зима была ужасная. Хотя лично я до неё не дожил”.
“Немцы всё ещё в России?”
Доктор Каценеленбоген дипломатично кашлянул.
“Э! э! э! – вскричала Анна Яковлевна. – Софи! Не сметь!.. Она не выносит папиросного дыма”.
Совершив в воздухе дугу, голая и тощая, того особенного цвета, который напоминает покрытый плесенью шоколад, обезьянка плюхнулась на стол.
“Софи, назад!” – громыхнул доктор, но было поздно. Раскорячившись на столе, высоко подняв загнутый кренделем хвост, Софи выдавила из себя комок и ещё один комок.
“Ужас, – пробормотала Анна Яковлевна, – что за воспитание...”
“Софи! и тебе не стыдно?” – внушительно сказал доктор Каценеленбоген.
“Для библиотеки”, – пропищала Софи, показывая чёрной лапкой на запачканную, поруганную рукопись.
“Какой ещё библиотеки?”
“В Козловском переулке, в уборной”.
“Боже мой, откуда ты знаешь о Козловском переулке, тебя ещё не было на свете...”
“Ничего, я сейчас уберу”, – бормотал писатель.
Он явился с железным совком для выгребания золы из печки, молча стряхивал жёлто-коричневые колбаски с рукописей.
“Поди прочь, не хочу с тобой разговаривать, – говорила Анна Яковлевна. Обезьянка снова сидела у неё на коленях. – Я тебя больше не люблю...”
Наступило неловкое молчание.
“О-о... моя спина. Не могу сидеть на этих табуретках. Доктор, отчего у меня болит спина?”
“Это позвоночник. Возрастные изменения”.
“И вы ничего не предпринимаете!”
Доктор Каценеленбоген ограничился неопределённым жестом.
“Вообще, что это за манера сваливать всё на возраст. Я была не такой уж старой!”
Удивительные вещи происходят, а впрочем, так и бывает, когда после долгой разлуки ужасаешься, до чего изменился человек, а потом видишь, что он всё такой же. Доктор, конечно, сильно сдал за эти годы, но вот прошло каких-нибудь четверть часа, и перед тобою прежний доктор Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района, величественный, массивный, с перстнем на пальце, с собственной практикой, которую он сумел сохранить в почти уже построенном обществе социализма, и вывеской у входа в прекрасный старый дом на Чистых прудах.
Сопя, доктор тянет губы к мясистому носу, приподнимает седую бровь.
Анна Яковлевна:
“Прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Что присутствие врача – само по себе терапевтическое мероприятие. Mon Dieu! сколько можно повторять одно и то же”.
Экс-баронесса вновь покоится в кресле; правда, это уже не верное старое кресло из комнатки-кельи в Большом Козловском. Анна Яковлевна восседает в инвалидном кресле-каталке.
“Совсем дырявая память! – вздыхает она. – Я ведь знала, помнила, как вы с мамой вернулись из эвакуации... (Писатель не возражает). А ты, если не ошибаюсь, поступил в университет?”
“Не ошибаетесь”.
“Не хочу мучать тебя бестактными вопросами, ты уж прости меня. Ты, кажется, снова уехал... надолго?”
“Уехал... на северо-восток”.
Доктор Каценеленбоген заметил, что пребывание в здоровом северном климате имеет свою положительную сторону.
“Это верно”, – сказал писатель.
Анна Яковлевна спрашивает, отчего он не живёт в их квартире, и снова ничего не остаётся, как в ответ пожать плечами.
“Извини мою назойливость, я не совсем понимаю. Но меня интересует. Чем ты всё-таки занимаешься? На что ты живёшь?”
“Я занимаюсь... – пробормотал он, – вы же видите”. (Кивок в сторону стола).
“Je m’y attendais... я так и подумала. Удаётся что-нибудь зарабатывать?”
“Для этого надо печататься”.
“Я могу похлопотать, – сказал доктор Каценеленбоген. – У меня сохранились кое-какие связи”.
Писатель поблагодарил. Анна Яковлевна возразила:
“Дорогой мой, вы меня просто изумляете. Какие связи?! В вашем положении... я хочу сказать, в нашем положении”.
Она умоляюще взглянула на писателя, украдкой постучала пальцем по лбу.
“Что касается заработка, – продолжал он, – я работаю. Или, вернее, работал. Она меня устроила”.
“Эта женщина?”
“Ну да. Ваша племянница”.
“Мой Бог, какая она мне племянница. Седьмая вода на киселе... Скажи мне... (понизив голос) ты с ней в близких отношениях?”
“В общем, да”.
Доктор Каценеленбоген изобразил на лице понимающую мину.
“Она тебя любит? Почему ты на ней не женишься?”
“Дорогая, почему молодой человек непременно должен...”
“Доктор, молчите. Я знаю, что вы хотите сказать”.
“О женитьбе не может быть речи, – сказал писатель. – Мы принадлежим к разным этажам общества”.
“Но ты выражаешься прямо как в старорежимные времена! Что ты хочешь этим сказать?”
“То, что сказал”.
“Но ты её любишь?”
Писатель взглянул на Анну Яковлевну ничего не выражающим взглядом, посмотрел на рукопись со следами безобразия. Вопрос застыл на сморщенном личике Анны Яковлевны. Доктор Каценеленбоген обнаружил в нагрудном кармане своего пиджака сигару и занялся раскуриванием.
“Я не могу любить, – помолчав, сказал писатель. – Это свойство во мне убито”.
“Что ты говоришь! Человек не может существовать без любви”.
“Очень даже может”.
“Я бы хотела знать, что ты пишешь: рассказы, романы?”
“В этом роде”.
“В моё время считалось, что романов без любви не бывает. Слово роман, собственно, и означало любовную связь. Как можно писать роман и не иметь представления о том, что такое любовь! – Писатель молчал. – Что же вас связывает?”
“Что связывает... – Он усмехнулся. – Вероятно, постель”.
“Немаловажный фактор”, – заметил, выпуская дым, доктор Каценеленбоген.
“Доктор, не пытайтесь изображать из себя циника. Вам это совершенно не к лицу!”
“А также благодарность, – продолжал писатель. – Она приняла во мне большое участие. Не оттолкнула меня. Вам, может быть, неизвестно, что значит вернуться оттуда... Люди шарахались от меня, как от привидения. А она... И кроме того... вы спрашиваете, что нас связывает...”
“О! – и Анна Яковлевна всплеснула руками, сокрушённо закивала, – я так и знала! Подтверждаются мои самые худшие предположения. Вы слышите, доктор, они вместе курят опиум!”
“Нет, – сказал писатель, – не опиум. Теперь опиум не курят”.
“А что же курят?”
“Ничего. Теперь колются”.
“Колются, чем? Ах, впрочем, всё равно... Доктор! Вы медик, и вы молчите?”
Доктор Каценеленбоген отложил в сторону сигару.
“Я бы хотел взглянуть, – проговорил он. – Ну-ка, засучи рукав, живо. М-да. Совершенно верно. Именно так. Часто?”
“Нет, не часто”, – сказал писатель.
“Что касается Валентины, от неё всего можно ждать, – со вздохом сказала Анна Яковлевна. – До чего мы дожили. Так что же это за работа, которая даёт тебе возможность проживать в этой избе?”