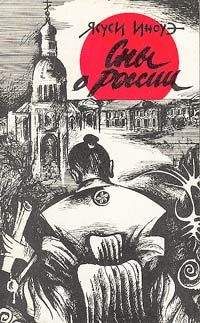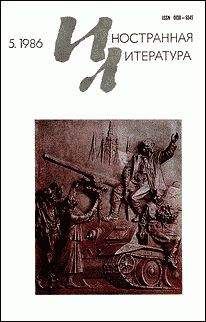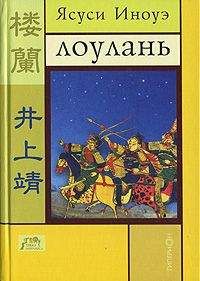«Ее величество приняла мой план. Японскому купцу Кодаю была пожалована золотая медаль, шестьсот рублей, а также предоставлены жилище и стол. Решено отправить его в Японию на фрегате „Слава России”, мой сын Адам будет его сопровождать. Каждому члену экипажа фрегата будет пожаловано по двести рублей. На следующей неделе я выезжаю отсюда в Иркутск».
Россия была не единственной страной, интересовавшейся судьбой Кодаю. Благодаря французу Лессепсу, упоминавшему Кодаю в книге о своих путешествиях, в Европе о нем знали еще до того, как он прибыл в Петербург. Мак-Картни, которого английское правительство направило в 1792 году в Китай с целью налаживания англо-китайских торговых отношений, накануне отъезда (в начале апреля) в частном письме английскому послу в России Чарлзу Уитворту выразил желание пригласить Кодаю на службу в качестве личного секретаря.
В ответном письме, полученном в Лондоне девятого июня, Уитворт сообщал, что информацию о потерпевших кораблекрушение японцах он направил в Лондон еще в сентябре 1791 года, и если она не дошла по назначению, значит, ее выкрали в пути. Короче говоря, японца Кодаю, хотя сам он не знал об этом, некоторые политические деятели тогдашней Европы рассматривали как личность, заслуживающую самого пристального внимания.
С тех пор как Кодаю узнал от Воронцова о разрешении вернуться в Японию, жизнь закрутилась в бешеном темпе. Высокопоставленные сановники, с которыми Кодаю познакомился в Царском Селе, наперебой приглашали его в гости, а Лаксман и близкие друзья то и дело устраивали в его честь званые обеды. Помимо этого, Кодаю регулярно посещал и изучал целый ряд учреждений: университет, больницы, дома призрения. Ему разрешили осмотреть императорский музей, библиотеку, кунсткамеру и ряд ведомств, недоступных для простых смертных. Всякий раз его сопровождали опытные специалисты. До поздней ночи Кодаю засиживался за столом, подробно записывая виденное за день. Он больше не испытывал ощущения бесцельности своей работы, как это было в доме Буша в Царском Селе. Теперь каждая написанная им строка таила драгоценные сведения, которые он должен был поведать своим соотечественникам. Ему трудно было предвидеть, как будут оценены полученные им сведения на родине, но он был уверен, что многое может оказаться чрезвычайно полезным.
Кодаю писал и писал, сожалея о каждом часе, потраченном на сон.
«Больницы здесь называют госпиталями или больничными домами. В Петербурге их восемь, а в Москве — двенадцать. Палаты в больницах — разных разрядов, в лучших лечится знать и высокопоставленные чиновники. Палаты очень чистые, доктора — на государственной службе, они ежедневно осматривают и лечат больных. Каждую неделю устраивается баня. Благотворители регулярно присылают больным еду и деньги, которые всегда поровну делятся между всеми больными, независимо от их имущественного положения. Знать обычно отдает свою долю больным, которые победнее. Больницы имеются не только в столице, но и в других городах. К примеру, Сёдзо поместили в иркутскую больницу — красивое здание в китайском стиле, — которую каждую неделю инспектирует специальный чиновник»; «Есть сиротские дома, где воспитывают брошенных детей и детей, оставшихся без родителей. Один такой дом в Москве, один — в Петербурге. В них имеются школа и разнообразные мастерские…»
Дважды Кодаю побывал в театре. В ту пору в Петербурге действовали три русских театра, два немецких, один английский и один французский. Театры, которые посетил Кодаю, представляли собой трехэтажные здания со специальными ложами для знати. В отличие от японских театров занавес поднимался кверху, в перерывах между действиями юноши исполняли различные танцы под аккомпанемент гармоники или балалайки. По возвращении домой из театра Кодаю обстоятельно записывал содержание спектакля.
Кодаю побывал и на странном празднестве, именуемом «машкерад», которое проводилось в течение всего года, один раз в неделю. «Машкерад» устраивался на втором этаже огромного трехэтажного здания, расположенного поблизости от плавучего моста. В обычные дни здание это пустовало. В «машкераде» участвовали все желающие — от престолонаследника и высокопоставленных чиновников до простолюдина. Каждый наряжался в необычное платье, а лицо скрывал под причудливой маской. Веселье длилось с захода солнца до глубокой ночи. Небольшие комнатки отводились под закусочные. Кодаю довелось побывать на многих празднествах и представлениях, но назначения «машкерада» он так и не смог понять, а потому затруднялся оценить его по достоинству. Иногда в голову ему приходила мысль: «машкерады» устраиваются для того, чтобы знатные люди и сановники могли услышать истинный, не искаженный условностями голос простого народа.
Гуляя по городу, Кодаю нередко заглядывал в лавки. Многие из них торговали серебряной посудой. Как правило, при таких лавках имелись мастерские, изготовлявшие фирменную посуду, которая потом выставлялась в витринах. Внимание Кодаю привлекли и разнообразные висячие лампы и подсвечники. Некоторые подсвечники были выше человеческого роста. Лакированная посуда встречалась чрезвычайно редко — по-видимому, в России ею не пользовались. Если же у какого-нибудь аристократа или богача появлялась японская лакированная безделушка, он дорожил ею как самой большой драгоценностью.
Теперь, когда вопрос о возвращении на родину был решен, Кодаю с сожалением думал о десяти годах, бесцельно проведенных в России. Знать бы, что снова доведется ступить на родную землю, он по-иному использовал бы это время. Многое он мог бы еще записать, да времени оставалось мало.
На следующий день по приезде из Царского Села в Петербург Кодаю отправился к Синдзо по сообщенному им при встрече адресу, но не застал его дома. Хозяин постоялого двора сказал, что Синдзо вместе с друзьями отправился на две недели к морю на рыбную ловлю. Это было в характере Синдзо. Куда бы его ни забросила судьба — он быстро привыкал и с легкостью заводил знакомства среди местных жителей. В этом отношении ни Коити, ни Сёдзо, ни Исокити не могли за ним угнаться.
Спустя десять дней Кодаю вновь пришел к Синдзо. Был уже полдень, а Синдзо все еще спал в небольшой полутемной комнате. Они отправились в соседнюю чайную, и Кодаю сообщил Синдзо горькую для того новость: Кодаю, Коити и Исокити разрешено возвратиться в Японию, а Синдзо и Сёдзо остаются в России. Правда, им обещана служба, гарантирующая безбедное существование.
Синдзо побледнел, слушая рассказ Кодаю, но потом, будто успокоившись, решительно заявил:
— Вот и хорошо. Значит, нам с Сёдзо суждено остаться в этой стране. Ничего не поделаешь. Мы — дети крестьян-бедняков. В Японии нам пришлось бы или поле обрабатывать, или снова наниматься в матросы. Здесь же нам обещают приличную жизнь. Не стану врать — мне бы тоже хотелось ступить на нашу землю, но нет у меня такого чувства, будто я пуще жизни хочу увидеть родные берега. Но если уж мне суждено провести остаток жизни здесь, я предпочел бы жить в Иркутске. Там люди более сердечные, да и обычаи похожи на японские. Возьмите меня с собой в Иркутск и защитите, если возникнут неприятности, — я ведь самовольно оттуда уехал.
Кодаю заверил Синдзо, что это легко можно уладить, и предложил ему переселиться к себе — так будет удобнее. Синдзо усмехнулся:
— Не знаю, сколько вам еще придется оставаться в Петербурге, только думается мне, лучше нам жить отдельно. Вы японец, а я теперь подданный России — мы будем стеснять друг друга.
Кодаю согласился. Действительно, те, что возвращаются на родину, и те, что остаются на чужбине, должны испытывать разные чувства, и, наверное, общаться нужно поменьше, — так будет лучше для тех и для других. Договорившись с Синдзо о том, что они будут регулярно поддерживать связь, поскольку дата отъезда в Иркутск еще не определена, Кодаю простился и отправился восвояси.
С тех пор каждые четыре-пять дней Синдзо заглядывал к Кодаю. Выглядел он не столь мрачно, как предполагал Кодаю. По-видимому, стремился как можно скорее возвратиться в Иркутск, где его ждала женщина.
Двадцатого октября Кодаю и Лаксман были приглашены на короткую аудиенцию к Екатерине. Императрица пожаловала Кодаю личную табакерку. Прощаясь, она пожелала ему счастливого плавания.
Восьмого октября Кодаю пригласил к себе Воронцов и от имени императрицы вручил золотую медаль, часы и сто пятьдесят рублей. Медаль была из чистого золота, с портретом императрицы с одной стороны и с изображением Петра Великого на коне, попирающем дракона, — с другой. Носить ее надо было на шее на широкой голубой ленте. Медаль считалась высшей наградой для людей не дворянского происхождения. Помимо Кодаю в то время ею обладали лишь двое — известный иркутский купец Григорий Иванович Шелехов и один фейерверкер, прославившийся своим искусством далеко за пределами России. Часы были французские, удивительно тонкой работы.