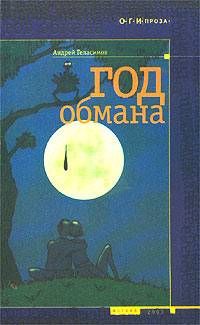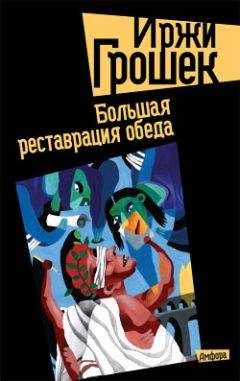Больше всего мне нравилось в ее роли то место в начале второго действия, где она говорит о своих родителях. Каждый раз, как она начинала этот небольшой монолог, я испытывал к ней такую жалость, что с трудом мог смотреть в ее сторону. Приходилось отворачиваться и говорить себе, что это всего лишь пьеса, которой к тому же недавно исполнилось сто лет. Надо признать, в этом случае Чехов попал в десятку. Как будто на самом деле все знал про Марину.
Сначала она с улыбкой вспоминала свое детство и то, как «отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие». Но в следующее мгновение по ее лицу пробегала тень, она опускала глаза и говорила, что «папаша и мамаша» теперь умерли.
Нельзя сказать, что я был большим другом Ильи Семеновича, но в эти минуты я удивительно остро понимал ее одиночество. В этой сцене ей даже не надо было ничего играть. В словах, которые написал для нее Чехов, было так много ее самой, что они выходили у нее совершенно естественно. Они звучали печально как последний вздох, и у меня каждый раз по спине бежали мурашки.
Потом она опускала голову еще ниже и произносила глухим голосом: «Так хочется поговорить, а не с кем… Никого у меня нет». Однажды она заплакала в этом месте, а маленький Мишка соскользнул с моего колена, побежал к ней, по дороге запнулся, упал между стульев, вскочил и с такими же как у нее слезами обхватил ее обеими руками за ноги. Так они стояли, обнявшись, и плакали, а мы не знали, что делать, и просто сидели с серьезными лицами, стараясь не смотреть друг на друга.
Но в остальном, у нее была очень смешная роль. Такая же смешная как у Епиходова. Он тоже иногда говорил грустные вещи, но чаще просто прикалывался. Называл гитару мандолиной, рассказывал про тараканов у себя в квасе, про пауков на груди, пел песни и вообще нес всякую чепуху. Эти две роли в спектакле мне нравились. По крайней мере, я их понимал.
Головной болью были обсуждения после репетиций. Иногда они приставали ко мне, чтобы узнать мое мнение. Их интересовал «свежий взгляд со стороны». Я постоянно отнекивался, но временами они бывали очень настойчивы.
– Ну, как тебе? – спрашивал кто-нибудь из них.
Не всегда это был тот, кто мне нравился.
– Очень актуальная вещь, – говорил я. – Жизненная. Но секса мало. И, вообще, непонятно, чего они все хотят.
– Как это мало? Да здесь и не должно быть секса. Это же классика.
– Вот я и говорю. Никакого секса.
– Ну и что?
– Не знаю. Как-то не по приколу. Смысл какой им тогда собираться? Они же не на работу туда приходят. Хотя, и на работе такие вещи иногда бывают, что обхохочешься.
– В каком смысле?
– В смысле секса.
– Ну, и что ты имеешь в виду?
– Да ничего. Хороший, говорю, спектакль. Жизненный.
– Ты что, хочешь сказать, что «Вишневый сад» устарел?
– Я хочу сказать, что не понимаю, чего им всем надо.
– Подожди, я сейчас тебе все объясню…
И он пускался в длинные рассуждения по поводу глубокой поэтичности русской бессюжетной драматургии, гениальности психоанализа и тому подобных вещей, а я смотрел на Марину, которая переодевала маленького Мишку, потому что он извозился в пыли, ползая под кроватью. Я смотрел как он поднимает над головой нелепые пухлые руки, как она вертит его, щекочет ему живот, как он прижимает локти, уворачиваясь от нее, и хихикает. В эти минуты я мог легко вынести даже самую идиотскую болтовню. Просто кивал головой и смотрел как бы в пространство.
– Да-да, конечно, – говорил я.
* * *
Но иногда Мишка становился просто невыносим.
– Ешь, а то Подзадовского позову, – говорила Марина раздраженным тоном.
– Не буду есть эту глину! – кричал в ответ Мишка. – Сама ее ешь!
– Это не глина, а картофельное пюре, – она изо всех сил честно пыталась взять себя в руки.
– Глина! Глина! Я ненавижу глину! Я колбаску хочу!
– Сейчас как тресну! – срывалась она наконец. – Даже Подзадовского звать не буду.
– Подзадовского не бывает, – продолжал кричать Мишка. – Не бывает! И Дед Мороза не бывает! Все врешь! Колбаску хочу! Надоела глина!
– А ну, заткнись! – кричала она и наконец отпускала ему затрещину.
Мишка убегал из-за стола и прятался где-нибудь на чердаке, а Марина сидела на кухне и утирала слезы. Я не очень понимал как надо обращаться с маленькими детьми, но чувствовал, что взрослым девушкам в этой ситуации тоже нужна помощь. Если честно сказать, жалко было обоих.
– Перестань, какой смысл теперь плакать?
– Я дура. Тупая дура. Он же совсем маленький.
– Ничего страшного.
– Он же не понимает. А я его стукнула. Разозлилась, как будто он во всем виноват. Господи, так стыдно.
– Все будет хорошо.
– А он вчера ночью меня спросил: «Долго еще папы с нами не будет?»
– Перестань себя мучить. Он тоже иногда сам выпрашивает.
– Он маленький.
– Это правда, – соглашался я. – А кто такой Подзадовский? Ты про него еще в лесу вспоминала.
– Подзадовский? – она в последний раз утирала слезы. – Это папа еще давно придумал. Когда я маленькая была. Если я капризничала, он всегда говорил, что у него есть такой друг, который приходит к непослушным детям и наказывает их вместо родителей. Я только потом поняла, что Подзадовский это совсем не фамилия. Это от слова «под зад». Понимаешь? У нас тогда еще мама живая была.
Она, наконец, улыбалась, но в глазах ее по-прежнему оставалась печаль.
– Ничего у меня не выходит. После его смерти все просто валится из рук. Деньги исчезают как ветер. Экономь – не экономь. Скоро на хлеб не останется. От картошки, и правда, уже тошнит. Что делать? Может, дачу продать?
Она тяжело вздыхала, и лицо ее становилось мрачным.
– Как в вашем спектакле, – говорил я.
– Что? – она непонимающе смотрела на меня.
– У Чехова. Там они тоже думают сад продать.
– А, – говорила она и снова опускала голову. – Еще этот спектакль не вовремя. Совсем не до диплома сейчас. Ну, почему он умер?
– Точно не возьмешь у меня пару сотен? – осторожно задавал я свой дежурный вопрос.
– Отвяжись, – устало говорила она и поднималась, чтобы идти искать Мишку. – Да и какой смысл в двух сотнях? Хотя, все равно, спасибо. Ты ужасно милый. Поможешь мне его найти?
Я понимал, что так не могло продолжаться вечно. Цены с ураганной скоростью росли каждый день. В правительстве начался бесовский шабаш. В Москве и в Питере политиков отстреливали одного за другим. Зачем-то убили даже Старовойтову. Финансовые боссы показали своим западным кредиторам кукиш и отказались платить по долгам. Целая страна была объявлена банкротом. Только кретин в этой ситуации мог надеяться на что-нибудь. Россия, а вместе с ней и все мы, со свистом летела псу под хвост. У меня было такое ощущение, что оставались считанные месяцы. Впрочем, вся эта долбаная страна меня не очень-то волновала. Я нервничал буквально из-за четырех людей. Среди них два места принадлежали Марине и ее брату. Я должен был позаботиться об этих двоих. В конце концов я решил, что откладывать больше нельзя. Надо было наконец сделать то, о чем я думал вот уже две недели.
* * *
Сережа даже не стал спрашивать, зачем мне понадобился пистолет. Не знаю, почему он не спросил. Может, потому что это был тот самый пистолет. А может, он просто постеснялся. Не каждый, наверное, сумеет прострелить кому-нибудь ключицу, а потом еще приставать с вопросами насчет пистолета. Я ведь не спрашивал его, как он провез эту штуку через границу. Тем более я не спрашивал его, на фига он вообще ее у себя держал. Как память, что ли? Или на случай, если я опять рядом подвернусь? При каких-нибудь непредвиденных обстоятельствах.
Короче, на эту тему можно себе придумывать разные вещи, но в кармане у меня теперь лежал револьвер. Это был факт. Классная, между прочим, штука. Правда, одного патрона в барабане уже не хватало. Итальянский хирург вырезал эту пулю из моего плеча и со звоном бросил ее в железный тазик. Наверное, мне следовало выпросить у них эту самую пулю, чтобы сделать из нее такой навороченный талисман. Может быть… Не знаю… Я лично хотел забыть обо всем этом.
Снег, выпавший три дня назад, к этому времени уже весь растаял. Когда мы были в лесу, мне даже показалось, что наступила настоящая зима. Сейчас мне больше так не казалось. Мой джип напоминал теперь скорее катер. За всю дорогу до самых Кузьминок я ни разу не выехал на сухое место. Потоки талой грязи заливали всю проезжую часть.
В центре я заскочил на десять минут в «Детский мир», а потом прямиком поехал в Кузьминки. Из-за грязи дорога заняла больше времени, чем обычно. Я старался притормаживать. Не ездить же по городу совсем как свинья. Тем более, что у меня в кармане лежал револьвер с боевыми патронами. Встреча с гаишниками мне сейчас точно нужна была меньше всего.
На рынке у «Будапешта» народу было немного. То ли из-за раннего утра, то ли оттого, что деньги у всех закончились. Так или иначе, в магазине у Саши-Мерседеса вообще никого не было. За прилавком стоял тот бритый амбал, которого Саша оставил вместо себя в прошлый раз.