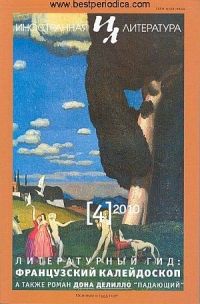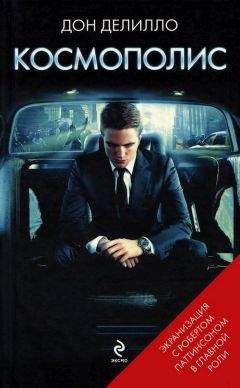На четвертый день они поговорили, сидя в гостиной, поздно вечером. На потолке недвижно сидел слепень.
— Я кое-что поняла.
— Ну хорошо.
— Я поняла, что некоторые мужчины в нашем мире лишь одной ногой. Не будем говорить «мужчины». Будем говорить: «люди». Люди, которые иногда бывают более или менее непостижимы.
— Ты это понимаешь.
— Так они оберегают себя, себя и других. Это я понимаю. Но есть кое-что еще: есть семья. Вот к чему я клоню: нам нужно оставаться вместе, сохранить нашу семью. Мы и только мы, мы втроем, всерьез и надолго, под одним кровом, не все триста шестьдесят пять дней в году, не все двенадцать месяцев в году, но с мыслью, что мы вместе надолго. В такие времена семья необходима. Согласен? Быть вместе, оставаться вместе. Только так можно выдержать то, что страшит нас до полусмерти.
— Ну хорошо.
— Мы нужны друг другу. Просто как люди, которые дышат одним воздухом, и только.
Ну хорошо, — сказал он.
— Но я вижу, к чему идет дело. Тебя унесет течением. Я к этому готова. Ты будешь отсутствовать все дольше, тебя занесет куда-то. Я знаю, чего ты хочешь. Не то чтобы мечтаешь исчезнуть, но испытываешь желание, которое исчезновением чревато.
— Исчезновение — это следствие. А может, наказание.
— Ты знаешь, чего я хочу. Я не знаю, а ты знаешь.
— Ты хочешь кого-нибудь убить, — сказала она.
Эту фразу она произнесла, не глядя на него.
— Ты давно уже этого хочешь, — сказала она. — Не знаю, каково этого хотеть. Но желание у тебя есть.
Высказав догадку вслух, она сразу сама засомневалась. Но знала доподлинно: он никогда не признавался себе в желании, о котором она догадывается. Желание запрятано в его крови — пожалуй, лишь пульсирует на виске, почти неуловимая каденция в тонкой голубой жилке. Она знала: ему нужно утолить некую потребность, расквитаться сполна. Полагала: эта потребность и гонит его с насиженного места.
— Жалко, в армию не могу пойти служить. Староват, — сказал он. — Тогда я мог бы убивать безнаказанно, а потом возвращаться домой и семействовать.
Он пил шотландский виски без льда — прихлебывал, слегка улыбался собственным словам.
— На прежнюю работу ты вернуться не можешь. Это я понимаю.
— Работа. Работа как работа, мало отличалась от прежней. Но то было «до», а теперь — «после».
— Я знаю, мало у кого жизнь складывается логично. Ну, понимаешь: что вообще логично в нашей стране? Не могу же я сидеть здесь и говорить: «А давай на месяц уедем». Не собираюсь опускаться до таких фраз. Они же из другого мира, из логичного. И все-таки выслушай. Ты был сильнее меня. Ты помог мне прийти к тому, что я сейчас имею. Иначе… не знаю, где бы я сейчас была.
— Мне ли говорить о силе. Какая еще сила?
— Я почувствовала твою силу, увидела. В башне был ты, а взбесилась из нас двоих я. Зато теперь… даже не знаю.
Помолчав, он сказал:
— А я тоже не знаю.
И оба засмеялись.
— Одно время я наблюдала за тобой, когда ты спал. Похоже на безумие, сама понимаю. Но никакого безумия в этом не было. Ты просто был такой, какой есть: ты был живой, ты вернулся сюда к нам. Я на тебя смотрела. У меня было ощущение, что я узнала тебя с новой стороны, каким не знала раньше. Мы были семьей. Вот что это было. Вот как мы выкарабкались.
— Послушай, доверься мне.
— Ну хорошо.
— Я не хочу находить себе постоянное занятие, — сказал он. — Уезжаю на время и возвращаюсь. Я не исчезну. Никаких крутых перемен не будет. Сейчас я здесь, и я вернусь. Ты хочешь, чтобы я возвращался. Верно?
— Да.
— Уезжаю и возвращаюсь. Все просто.
— Скоро появятся деньги, — сказала она. — К продаже почти все готово.
— Деньги появятся.
— Да, — сказала она.
Он помогал утрясти сделку с квартирой ее матери. Читал договоры, вносил исправления и присылал указания по электронной почте с турнира, из казино в какой-то индейской резервации.
— Деньги появятся, — сказал он. — Мальчику на учебу. С сегодняшнего дня до колледжа, на одиннадцать-двенадцать лет учебы, ужас сколько денег. Но ты подразумеваешь другое. Хочешь сказать, что нам по карману крупный проигрыш. Проигрышей не будет.
— Если ты уверен, то и я уверена.
— Не бывало и не будет, — сказал он.
— Ну а Париж? Париж-то будет?
— Париж будет через месяц. Только в Атлантик-Сити.
— Как смотрят тюремщики на свидания с женами?
— Тебе там не место.
— Я тоже так считаю, — сказала она. — Потому что думать об этом — одно, а видеть своими глазами — совсем другое. Я если увижу, вконец расстроюсь. Люди сидят за столом и шарк-шарк-шарк картами. Неделя за неделей. Летят самолетом, чтобы поиграть в карты. Я хочу сказать: это же не только абсурдно, не только верх безумия, психоз, но еще и очень грустно, правда?
— Ты сама говоришь: мало у кого жизнь логична.
— Но разве это не деморализует? Разве не высасывает из тебя все соки? Не может не подрывать дух. Понимаешь, я по телевизору вчера вечером смотрела. Прямо спиритический сеанс в аду. Тик-так, тик-так. Что случится после нескольких месяцев такой жизни? Или нескольких лет. В кого ты превратишься?
Он посмотрел на нее и кивнул, словно бы соглашаясь, и продолжал кивать, придавая этому совершенно другое значение, прикидываясь, что задремал: приступ нарколепсии, глаза раскрыты, мозг закрыт наглухо.
Одну вещь, самоочевидную, они вслух не обсуждали. Она хотела чувствовать себя в безопасности на этом свете. А он не хотел.
13
Когда несколько месяцев назад она получила повестку — ее выбрали присяжным заседателем — и явилась в окружной суд вместе с еще пятьюстами потенциальными присяжными, и узнала, что судят юриста по обвинению в пособничестве террористам, она заполнила сорок пять страниц анкеты правдой, полуправдой и откровенной ложью.
Еще раньше, до повестки, ей предлагали на редактуру книги о терроризме или на близкие темы. Любая тема казалась близкой терроризму. Она сама не понимала, почему ее так тянуло работать над подобными книгами в те недели и месяцы, когда по ночам было не заснуть, а по подъезду разносились песни мистиков из пустыни.
Судебный процесс уже начался, но она не следила за ним по газетам. Она была присяжным номер 121, не допущенным к процессу на основании письменных ответов на анкету. Из-за каких ответов ее не допустили — правдивых или лживых, — она не знала.
Она знала лишь, что юрист — женщина, американка — была связана с мусульманским священнослужителем-радикалом, который отбывает пожизненное заключение за терроризм. Знала, что этот священнослужитель — слепой. Это все знают. Его так и прозвали: Слепой Шейх. Но подробностей обвинений, предъявленных юристу, она не знала: в статьи не заглядывала.
Сейчас она редактирует книгу о первых исследователях Арктики и еще одну, о художниках позднего Ренессанса, и считает от ста до единицы, пропуская по семь чисел.
Наложил на себя руки.
На протяжении девятнадцати лет, с тех пор, как он выпустил пулю, убившую его самого, она периодически повторяла эту фразу, в знак памяти, красивые слова с архаичным оттенком: среднеанглийского или старонорвежского. Воображала себе эти слова, высеченные на старинном покосившемся надгробье на запущенном кладбище где-то в Новой Англии.
Дедушки и бабушки выполняют сакральные функции. Их память дальше, чем у других, углубляется в прошлое. Но почти все дедушки и бабушки ушли в мир иной. У Джастина остался только дед — отец его отца, домосед, чьи воспоминания окостенели, прилипли к рутине его повседневной жизни, так что ребенку не очень доступны. Ребенок пока недостаточно подрос, чтобы его собственные воспоминания начали отбрасывать плотную тень. Она сама, мать и дочь в одном лице, — на каком-то среднем этапе эстафеты. Она знает, что, как минимум, одно воспоминание надежно, ибо неискоренимо — день, начиная с которого она осознала, что она за человек и что у нее за жизнь.
Ее отца похоронили не на продуваемом ветром погосте под голыми деревьями. Джек лежит в мраморной нише высоко в стене комплекса-мавзолея в предместьях Бостона, он и еще несколько сот человек, размещенные на ярусах, от пола до потолка.
Некролог попался ей на глаза однажды поздно вечером, в газете шестидневной давности.
Люди умирают что ни день, заметил как-то Кейт. Разве это новость?
Теперь он снова в Лас-Вегасе, а она лежит в постели, листает страницы, читает некрологи. Важность одного из них осознала не сразу. Дэвид Джениэк, 39 лет. Рассказ о его жизни и смерти — короткий, отрывочный: написано наспех, прямо перед сдачей номера, подумала она. И еще подумала: в номере за следующий день должна быть подробная статья. Фотографий не было — ни портрета, ни репортажей о поступках, которые на какое-то время создали покойному скандальную славу. О поступках упоминалось лишь в одной фразе: сообщалось, что Джениэк — артист-перформансист, которого прозвали Падающим.