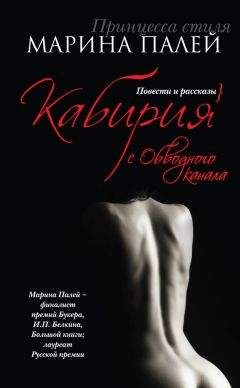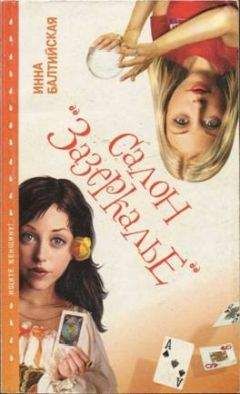Я, втихаря от моих благодатных моделей, делала зарисовки с натуры.
Конечно, меня, как всегда (надоело), будут обвинять в мизогинии. Не отшатывайтесь, это не заразно. Но почему не обвиняют в том же естественном, таком понятном женоненавистничестве, например, древних египтян, считавших, что божество в виде сакрального жука Хепри катит по небу шар солнца, а самка того же жука – катит по земле шар навоза? В который она, самка, к тому же тупо откладывает свои дурацкие яйца? Если уж на то пошло: почему не обвиняют в женоненавистничестве целые поколения ориентальных культур, создавших на всей планете твердое (по-моему, справедливое) представление о том, что начало Инь является беспросветно косным, заземленным, аморфным? Мало того – лживым, малодушным, зловеще-темным?
Ладно. Подопрусь конкретными авторитетами из относительно современных.
Вспомним приплюснуто-пришибленных фрауен (у знаменитого Кирхнера), – их же, но изуродованных, словно войной (у блистательного Отто Дикса), – по-коровьи отяжелевших и одновременно костистых, широкозадых прачек Дега – или, скажем, задиристо-обшморганных проституток такого титана как Лотрек. Я уж умолчу про откровенно-зловещих, монструозно разнагишенных человечьих самок Эгона Шиле. Про изысканно-зловещих человечиц Бердслея...
Впрочем, если бы перечисленные авторитеты изображали женщин исключительно в виде конфетно-оберточной Девы Марии, я все равно осталась бы при своем.
Самка тарантула, сразу после полового акта, отгрызает самцу голову, которую пожирает. Что, конечно же, целесообразно. Причем целесообразно сразу по целому ряду причин: 1. надо же кормить детей (а кто их еще кормить будет? может быть, Пушкин?); 2. чем меньше он думает, тем лучше для семьи; 3. чем меньше он думает, тем лучше для него самого (не надо бояться за его голову, которая в этом случае, как заметил тот же А. С. П. – в хрестоматийном письме к В. о женитьбе Б., – целиком уходит в законно-интимное женское место, как в теплую шапку с ушами).
Они искали себе мужей, то есть пожизненных содержателей; либо, наоборот, – подкаблучных подопечных (для повышения собственной значимости); они искали себе осеменителей; они искали себе престижных работодателей; они искали себе недостающий член в трехчленную формулу муж – дети – семья; они искали себе половой член; они искали себе гарантию пожизненных благ в виде супружеского (безболезненного) разочарования – большого-пребольшого, но зато одного (!) – взамен множества разочарований любовных – беспокойных, всегда крайне болезненных.
Maar ik...Ik zocht liefde. Alleen liefde. Echt liefde. Ik ga altijd het zoeken[16].
Пожалуй, он был одинок. Я не знала, была ли у него женщина там, куда он ездил – на великом великобританском острове. Собственно, наличие у него более-менее постоянной женщины (или мужчины) ничего не меняло.
Он был одинок.
Он был одинок в том высшем смысле, когда это качество может быть приравнено к доблести и чистоте воинов небесного архистратига.
Его одиночество было тождественно его исключительности – и так же непоколебимо.
Да, однажды он сказал мне об этом кое-что. Когда умерла его мать, что случилось незадолго до нашей встречи, жизнь потеряла для него смысл. Из этого вытекало, в частности (о чем я догадалась сама), что он даже не собирается как-то устраивать свой быт: кабинету между нашими спальнями (о, нашими спальнями!) – суждено было оставаться заваленным нераспакованными коробками, ящиками и прочей тарой. Кабинет для своей непосредственной функции был Джейку не нужен: он работал там, где находился физически, то есть везде: в своей спальне, в гостиной, в кухне, в консульстве, в вагонах, салонах, барах, кафе... Кабинет, с воплощенным в нем хаосом, просто разделял «наши» (мою и его) комнаты.
Однажды, уже весной, в конце мая, когда вовсю цвели каштаны, японские вишни, магнолии – и, боже мой, вся флора благословенного Амстердама – я увидела Джейка в Вонделпарке: он ехал на велосипеде – в синей тишортке, особенно красивой на тигриных буграх мышц. Меня, помню, тогда навылет сразили его – склоненные к рулю – сверкающие ключицы...
Подобным переживанием я была впервые награждена в подростковой поре, когда я заметила то же самое у своего кузена.
Это был мой погодок, иноземный кареглазый блондин. Феноменальность открытия состояла в том, что кузен (стояло лето, благословенное лето) держался на велосипеде совсем не так, как, например, мои же кузины.
Это «не так» заключалось во всем сразу, имея акцентом именно поразительный наклон его ключиц по отношению к рулю. Это был не нейтральный наклон, а именно такой – в котором проклевывались уже откровенно мужские черты, черт подери. Наклон, обеспеченный мощными, обнаженными, волновавшими меня предплечьями (о, как лихо были закатаны рукава клетчатой ковбойки!). Мне казалось, что у этих предплечий, у этих рук в целом, должно быть какое-то иное назначение – я не совсем понимала, какое именно, но знала твердо: то, другое их назначение имеет отношение к моему телу, к моей душе, к моей судьбе – и оно, это их назначение, является главным.
Но ничего путного с этой догадкой нельзя было сделать – разве что, как водится, трепетать. А также: плакать, потаенно любоваться, гибнуть.
У Джейка Джиггертона было именно такое взаиморасположение ключиц и руля.
Именно такие, обворожительной лепки, предплечья были у него...
Он рассеянно вилял по розовым дорожкам парка, думая о чем-то... Скорее всего, физически несовместимом с ним же самим.
У него было такое выражение лица, словно он мечтал раствориться в светотени деревьев.
Он не брал у меня уроков рисования, не просил чего-либо вообще. Мы почти не разговаривали. Иногда Джейк предупреждал меня, что будет обедать дома. Тогда он приходил в пять часов, а в шесть мы, как положено подданным здешней королевы, уже сидели за столом.
Прихорашиваясь к вечеру, я интуитивно закручивала свой конский хвост в очень тугой узел, отчего лицо делалось гладким, молодым, гордым и наивным вместе. Надевала черное французское платье. Никакой косметики. Скромность и мягкость. На обед – мясо или рыба – и много разнообразных, красиво разложенных овощей. Вино, вода, маленькая свеча. Все очень скромно, даже скудновато – но я понимаю толк в изысканности, которую несет в себе такого рода «скудость».
Положить ли вам еще, Джейк? – Да, спасибо, немного.
За окном – дождь...
Дождь...
Вот так бы и сидеть до конца дней.
Один эпизод нашей совместно-раздельной жизни я даже сейчас воспринимаю как сон.
Медленный поезд (stoptrein).
Пустой вагон.
В вагоне сижу я.
Смотрю на проплывающие за стеклом осенние поля – на ту осень, которая еще словно бы отсрочка лету – солнечный сок, пахнущее зеленью жужжание насекомых, неунывающие небеса, жизнь.
Смотрю и смотрю.
В это самое время в вагон входит Джейк Джиггертон.
Вот так: берет и входит себе на какой-то станции.
Один.
То есть больше в вагон не входит никто.
И мы едем в вагоне. Посреди пустых полей. Причем Джейк не видит меня. Он тоже смотрит в окно своего купе – на поля, коров, овец, птиц, близкий горизонт...
А я смотрю на Джейка и мечтаю, что, возможно, он думает обо мне. И, если он думает обо мне, значит, мы вместе. И кажется мне, будто весь мир – грешный, смертный, свершающий подневольное коловращенье в буффонаде тщеты – проносится мимо нашего анклава счастья – мимо, мимо!
А мы – мы, незыблемо и нерасторжимо, пребываем в своем собственном мире.
Ушлые мужеловки, мужеловицы и мужеловчихи настырно советовали мне рассказать Джейку о моем положении. Твердолобые, они тупо считали, что он мне тут же и пособит. Каким образом? Очень простым. Советовавшие свято считали, что он-то, сотрудник Британского посольства, всегда может выйти, вась-вась, на своего дружбана, министра юстиции из соответствующего министерства Нидерландов. А они что, разве друг друга не знают? Ну так узнают... Ворон ворону глаз не выклюет.
Такова логика существ, одалживающих друг у друга лифчики-трусики. Логика железная, но не универсальная. Мне-то как раз было ясно, что своими рассказами я Джейка только отпугну.
Мне было видно, что его устраивает моя безгласность. Моя словно бы даже бестелесность.
Автономность.
Анонимность в целом.
Я даже не пыталась понять, зачем он позвал меня к себе жить. Хотя предположения, конечно, делала. Возможно, как это ни горько, то был спонтанный порыв благородства, просто совпавший с Рождеством...
Или к Рождеству все-таки приуроченный?