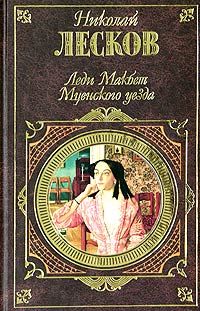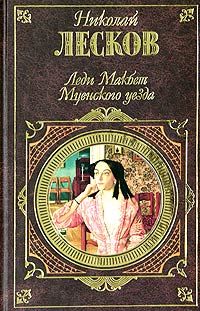– Ты почему же не пошел за билетом? – строго спросил его шофер.
– Паспорта нет, – честно отвечал мужчина.
– А другой какой-нибудь документ есть? – не унимался шофер.
– Триста рублей, – сказал мужчина и протянул три сторублевки шоферу.
Тот вполне удовлетворился этим трехстраничным документом, быстро сунул его в карман, чтобы дома перечитать повнимательнее, и мы поехали по направлению к границе.
«У нас только по пропускам. Хотя можно пройти и так», – вывалилось из какого-то, заросшего паутиной, уголка памяти.
Алексин, как известно, находится в Тульской губернии. Ну чем, спрашивается, может быть знаменит город в местах, где даже дети стреляют из рогаток, сконструированных под винтовочный или пистолетный патрон? Впрочем, алексинцы известные мастера не по части ружей, а по части зелья. Не в смысле табачного или бутылочного, а в смысле пороха в пороховницах. Еще с незапамятных времен здесь производили несколько совершенно уникальных сортов пороха, которых даже и сами китайцы не смогли придумать. К примеру, в середине восемнадцатого века здесь изготавливали легкий светлый порох. В очень малых количествах, буквально золотник на пуд, его добавляли в нюхательный табак. Вдохнешь понюшку такой смеси… Никакого членовредительства, боже упаси, но такие чувствительные по всему телу… Нет, иначе чем «микрооргазмы», это не назовешь. Купеческие жены очень им увлекались. Нанюхаются, бывало, до полного телесного изнеможения. И потом всю ночь спят как убитые. Или взять другой сорт… Вот только брать теперь неоткуда – кончился алексинский порох. Пороховница в виде химического комбината осталась, а пороха там если поскрести по сусекам да помести по амбарам, то на колобок, конечно, набрать можно… Пробовали на пустующих площадях разводить осетровых – не пошло. То есть осетры разводятся, но то ли вкус нехорош, то ли народ так объелся осетрины, что смотреть на нее не может… Правда, выяснилось, что с заряженной в двуствольное ружье горстью такой осетровой икры можно не только утку добыть, но и глухаря при случае.
Кстати, о рыбе. В одном из залов, который, как и весь музей, вся улица и весь город, стоит на берегу Оки, устроена экспозиция, живописующая быт рыбацких артелей позапрошлого века. Так вот – ячейка рыболовной сети там размером десять на десять сантиметров. Ячейки нынешних сетей… Эх, да что там говорить… Одно слово – нанотехнологии, будь они неладны.
Но вода в реке, как говорят местные жители, стала чище. Раньше, к примеру, один только хлебозавод что-то такое синее и черное сливал – все прибрежные камни были осклизлыми… Впрочем, теперь хлебозавод тоже загнулся. Понятное дело, что виноваты москвичи. Скупили завод на корню и на корню же извели. И ведь не просто лишили людей хлеба насущного – лишили настоящих алексинских пряников. Неверно думать, что алексинский пряник младший брат тульского, только заболел в детстве, подхватив где-то плесень, и умер молодым от острого абсцесса плодово-ягодной начинки. Нет, алексинский пряник обладал своим неповторимым вкусом, который только и сохранился в рассказах старожилов, да в музее, в витрине, выставлена пустая картонная коробка.
Кстати, о музейной витрине. В соседней лежит цепь последнего городского головы Георгия Михайловича Золотарева. Потом место головы занимали все больше другие части тела. Его большевики выселили из собственного дома вместе с семьей и двенадцатью детьми. Алексинцы, к чести их будь сказано, помня сделанное в свое время Золотаревым для города, вступились за своего городского голову, хоть и бывшего. Написали прошение властям. Несколько сот человек подписали бумагу. Понятное дело, что не помогло, но подписали. Так вот, о цепи. Уж кто принес ее в музей – не знаю. Заведующая историческим отделом музея рассказывала мне, что долго гадали – для чего сей предмет. Кто-то даже предположил, что это элемент конской упряжи. По большому счету, так оно и есть. Впрягся – тяни этот воз что есть сил. Но кто и когда в этот воз впрягался в последний раз, не упомнят даже старожилы, помнящие вкус алексинских пряников. Нынешние норовят все больше на возу прокатиться. Еще и приговаривают: «Что с возу упало, то приватизировано или выкуплено по остаточной стоимости».
Но не все так плохо, как хотелось бы. Взять, к примеру, завод запорной арматуры – такие вентили делает, что закачаешься. Огромные, выше человеческого роста, вентили для трубопроводов. Так что закачаешься в том смысле, что качать нам эту нефть – не перекачать. Хотя… почему нам? Мы вообще стоим с другой стороны забора. Им, конечно. Тем, кто рядом с трубой. Поговаривают, что был недавно большой заказ из Москвы на такие вентили. И не простые, а именные. На каждом – полированная табличка с гравировкой. Само собой, огромные краны не для всех. Остальным поменьше, а кто и маленькими, размером с кухонные, обойдется. Ох и любят они там, наверху, этими краниками меряться…
Кстати, о краниках. Когда музей ремонтировали, кто-то взял, да и перекрыл краник, из которого шло финансирование. Рабочие как покрасили треть фасада, так и плюнули. Без зарплаты кому охота красить. Хорошо хоть начали красить со двора, а не с парадного входа. Да и внутри, в залах… Денег не хватило на освещение. Потолки там высокие – все же бывшая купеческая усадьба, а не хрущоба. В некоторых залах поднимешь глаза кверху, а там, в тех местах, где не протекает крыша, все белое, точно живот без пупка, – не то что люстры, но и простой лампочки на проводе не висит. Еще и осень подкрадывается. Темнеть будет рано. Думали, обойдется, думали, пусть осень, пусть даже зима, раз без нее нельзя, но уж с темнотой-то как-нибудь можно повременить, пока с деньгами… а оно вона как…
Уже выходя из музея, сфотографировал макет местного динозавра. Мелкого, размером с теленка, и зеленого, как кузнечик. Из личных вещей, принадлежавших динозавру, сохранилось только яйцо. Да и то окаменевшее. Сам ли он снес его или ему подбросили – экскурсовод не знал. В отполированном яйце отражалась электрическая лампа.
– С ним связано местное поверье. Даже два, – сказал экскурсовод. – Говорят, если потереть яйцо… или просто подержаться двумя руками… еще не было случая, чтобы не помогло.
Пока я ходил по музею, на улице Советской, на которой он и стоит, закончился праздник под названием «День флага». Ветер гонял по тротуару разноцветный бумажный мусор, торговки упаковывали свой товар, среди которого я углядел сувенирные подковы с приклеенными к ним для верности крошечными образами Богоматери, со стола с самоваром убирали коробки с чаем «Бодрость» в пакетиках, связки каменных баранок, и какая-то старуха монотонно повторяла своему старику:
– Ты, когда клюкнешь, так уже заткнись, а то потом я людям в глаза смотреть… Заткнись, когда клюкнешь, так уже…
В кассе автовокзала, когда я протянул вместе с деньгами паспорт, сильно удивились. Отродясь они не слыхали, чтобы билет до Москвы надо было брать с паспортом.
* * *
Одиночество в деревне переносить легче, чем в городе. Все же там с тобой рядом и поле, и лес, и река. Даже натопленная печка, которая трещит веселым, а не грустным треском. А еще синицы. Скворец в скворечнике. И собака. С умной и понимающей собакой о чем только не поговоришь. Никакой жене не доверишь того, что можно доверить собаке. А если ее еще и за ухом почесать… Собаку, конечно, не жену. Почеши жену за ухом – много она поймет из того, что у тебя на душе? Она даже и удовольствия от этого не получит. Хотя… если долго жену не мыть или у нее чесотка… А в городе одиночество настоящее потому, что вокруг люди. Люди и больше никого – ни леса, ни реки, ни облаков в небе.
* * *
Это борщ или харчо едят шумно, в том смысле, что наливают, пьют, хохочут и еще наливают, а грибной суп едят тихо и даже задумчиво. Долго размешивают сметану, долго, с наслаждением, вдыхают грибной пар, долго, в мельчайших подробностях, вспоминают, как еще с вечера готовили корзину, заговоренный на боровики ножик и на всякий случай еще корзину, как перед рассветом снились белые, обходящие с флангов, как у самого леса увидали соседа, идущего со стороны заветной просеки с полным лукошком белых и в сердцах пожелали ему… а не надо было приходить раньше туда, куда не просили, и ничего бы не отнялось, как путали следы, как кричали выпью, уводя от поляны с подберезовиками двух любопытных старух, как через пять часов приползли домой, искусанные комарами до полусмерти, как еще три часа резали… нет, сначала любовались, смеялись счастливым белым и Лисичкиным смехом, потом еще любовались и совали под нос друг другу крепкие, упругие шляпки и ножки без единой червоточины, аккуратно снимали с них прилипшую хвою, березовые и осиновые листики, улиток, сдували муравьев, снимали кожицу с маслят и вот теперь уж резали, варили, снова вдыхали до истомы и головокружения грибной пар, бросали в кастрюлю розовокожую картошку, оранжевую морковку, золотистый от разогретого масла лук, широкие и неровные полоски домашней лапши, которой в подметки не годятся узкие и ровные из магазина, разливали по тарелкам, долго размешивали сметану и думали о том, что завтра надо бы встать пораньше и пойти не к просеке, а перебраться через овраг, пройти километра три к ручью и взять на всякий случай три корзины, а если встретится сосед… хотя вряд ли он до завтра оправится.