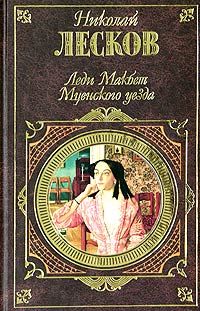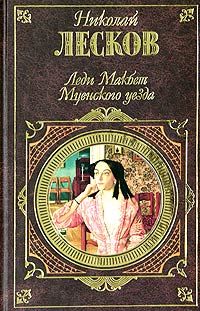Получив затрещину от жены, идет на кухню покурить, успокоиться и заодно проверить, как там мотыль, мешок с подсолнечным жмыхом для подкормки, не выдохлась ли… Только одной бутылки может и не хватить, если вдруг ударит сильный мороз, или клев будет такой, что не отойти сутки через трое, или сосед как в прошлый раз поймает огромную щуку, и ее придется обмывать втроем, чтобы успеть к концу отпуска… Тут рыбак просыпается, видит, что уже давно утро и на кухню входит жена поговорить о покупке новых зимних сапог. Вернее, догадывается. По скалке в ее правой руке.
В октябре, в Ярославле, в сумерках вода в Волге сиреневая. Над водой, в сиреневом воздухе, летают в разные стороны и разбиваются на множество острых осколков стеклянные крики чаек, на набережной горят желтые и белые фонари, под одним из которых стоят влюбленные и целуются. У их ног сидит не шевелясь бездомная собака и завороженно смотрит им в рты, надеясь, что вот-вот они разомкнутся и из каждого, или хотя бы из одного, выпадет сахарная косточка, а, может быть, и сосиска. Мимо влюбленных, мимо увитой гирляндой синих лампочек башни речного вокзала, мимо ротонд с белыми колоннами и черными чугунными решетками, увешанными новобрачными замками, мимо мамаш с колясками, мимо папаш с пивом, мимо плавучей хохочущей и поющей караоке гостиницы «Волжская жемчужина», мимо огромного белого корабля Успенского собора изо всех сил плывет по реке маленький зеленый буксир. Из тонкой, точно детская шея, трубы буксира поднимается к темному небу в клубах черного дыма такой толстый и басовитый гудок, что можно голову сломать, пытаясь представить, как он помещался внутри этого почти игрушечного суденышка. Откуда-то из сгустившейся темноты хрипло гудит буксиру в ответ огромная черная баржа, с черной нефтью в трюмах и кокетливым разноцветным фонариком на необъятной корме. Дым из трубы буксира вытягивается в струнку, точно поводок у какого-нибудь фокстерьера при виде кавказской овчарки, кораблик вздрагивает всем корпусом, но продолжает путь.
От старого допотопного Пучежа мало что осталось. Когда в пятидесятых решили устроить в тех местах Горьковское водохранилище, жители соседнего с Пучежем Юрьевца написали письмо Сталину. Просили не затапливать. Жители Пучежа ничего не писали – то ли надеялись на то, что как-нибудь все само собой рассосется, то ли знали, что надеяться не на что. Потому и остался от старого города лишь небольшой участок под названием «Завражье» с полуразвалившимися домиками. Весь остальной старый Пучеж, все его четыре сотни лет истории, находятся на дне водохранилища и в городском краеведческом музее, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Советской.
Остались берестяные короба, туески, расписные донца прялок, на которых умельцами из Городца изображены девичьи грезы в виде прекрасных женихов с усами, в костюмах, лихо заломленных фуражках, на резвых рысаках, и по краю цветочки, голубки, снова цветочки и снова голубки. На одном из донцев написано: «На часы не смотри – папиросочку кури».
С тех пор много воды утекло в Волге, но девичьи мечты не претерпели существенных изменений. Что же до возможности курить папиросочку и не смотреть на часы… Хоть я и не девица вовсе, а завсегда и с удовольствием.
В соседней комнате за стеклом лежат маленькие пушечки, которые устанавливались на купеческие суда для защиты от разбойников, и к ним горсть ядер размером с крупные фрикадельки. Тут же рядом висит и орудие труда противной стороны – кистень.
Чуть дальше висит несколько фотографий – купеческий ресторан на набережной и угол дома, кирпичи которого протерты веревками бурлаков. Дом стоял как раз в том месте, где Волга делала поворот. Бурлаки заходили за угол и тянули чалки (так правильно назывались бурлацкие веревки) за собой… Сейчас бы эти кирпичи туристам трогать. Придумать бы легенду о том, что тот, кто коснется этих кирпичей, будет всю жизнь лямку тянуть сильным и выносливым, как волжский бурлак. Вот только для того, чтобы их коснуться, надо быть водолазом. Все это теперь на дне водохранилища. А может, и на дне нет – перед затоплением многие здания разрушили.
Если уж составлять подробный реестрик остатков допотопного Пучежа, то надо в него вписать десяток толстенных железных гвоздей с большими шляпками, медные, начищенные до блеска наконечники пожарных брандспойтов, книжечку устава общества трезвости, пустую бутылку из-под «Московской очищенной», почтовые разновесы позапрошлого века, жестяную коробку монпансье московской фабрики Жукова, коробку из-под самарской ореховой халвы торгового дома Косолапова и Решетникова, бензиновую зажигалку времен Первой мировой, лампочку… нет, лампочка уже из другой, послепотопной жизни. Строго говоря, и та, послепотопная, жизнь тоже закончилось. Какая теперь жизнь – сам черт не разберет. Если составлять подробный реестрик остатков… льнопрядильная фабрика, устроенная еще в позапрошлом веке промышленником Сеньковым, приказала долго жить; еле дышит маленькая строчевышивальная фабрика; зарплата научного сотрудника музея вместе со «стимулирующими надбавками» составляет четыре тысячи триста рублей в месяц. Это если цифрами, а прописью – просто пиздец, причем такой полный, что ему уже пора лечиться от ожирения. Директор музея в тот день, что я в нем был, с самого утра бегала в администрацию и к местным бизнесменам выпрашивать хоть немного денег на то, чтобы устроить праздничное чаепитие ветеранам в музее. Не выпросила.
В третьем и последнем зале увидал я выставку репродукций картин Рериха. Музей устроил ее для школьников. Самое сложное, по словам музейного сотрудника, уговорить учителей, чтоб они приводили детей на выставку. Неохота учителям этим заниматься. Мало того что надо детей привести, так еще и собери с них по десять рублей на билет.
Перед выходом из музея заприметил я картину. Мужики и бабы с мешками на спине бредут куда-то под палящим солнцем по берегу Волги. Оказалось, что картина эта написана аж в восемнадцатом году. Мужики и бабы – мешочники. Набивали они мешки хлебом и подавались в Петроград или в Москву.
Меняли хлеб на нитки с иголками, швейные машинки, патефоны, примусы… Теперь в Москву едут налегке, без мешков. Без хлеба едут. В надежде на него заработать.
Перед тем, как сесть в машину, чтобы уезжать, я зачем-то обернулся и увидел, как экскурсовод мой вышел на крыльцо и закурил. В руках он держал старую жестяную банку из-под индийского кофе, в которую стряхивал пепел. Такие банки я помню еще по временам моего советского детства. Видимо, Пучеж такое место, где хорошо сохраняются жестяные банки. Когда-нибудь и ее кто-то найдет и поместит в музей. Если ничего другого от нас не остается – так пусть хоть пустая банка…
* * *
Теперь, в ноябре, на Пироговском водохранилище под Москвой – неуют, голые черные кусты, ивы, мокрые вороны и пустые пивные бутылки на прибрежном песке. Зато весной, когда растает лед и на поверхности воды появятся первые, еще маленькие, на один укус, румяные пирожки с капустой, яйцами и сливовым повидлом, когда бесстрашные мальчишки станут подталкивать их длинными палками к берегу, отгоняя при этом криками голодных грачей и чаек, или собирать с лодок сачками для бабочек, когда в каждом доме запоет закипающий чайник и заварится свежий индийский или цейлонский чай, когда от запаха свежей сдобы можно будет сойти с ума и изойти слюной…
* * *
Осенний вечер, бесконечнее которого только дождь и ветер, дующий из одной темноты в другую, но уже мокрую, переходящую во тьму, которая еще темнее от невидимой черной тучи, с летящей внутри нее черной вороной и мертвыми желтыми, красными, черными листьями черного чая в синей чашке с золотым ободком на отполированной ладонями вересковой трубке, плотно набитой золотыми стружками вирджинского табака с чуть сладковатым, пряным вкусом и невесомым голубым дымом, завивающимся в тонкие серебряные кольца на тонких и пугливых, вздрагивающих от каждого прикосновения губами, пальцах.
* * *
Наконец-то подморозило, и лес, воздух и облака в небе стали такими прозрачными, опустелыми и безмятежными, как бывает не после яростной ссоры с битьем посуды, слезами и доходящим до судорог желанием, а после того, как ты пишешь на четвертушке мятой бумаги, что все свои свитера из шкафа забрал, голубую рубашку в полоску можно пустить на тряпки, а сувенирную тарелку с видами Новгорода, которую подарила твоя бабушка, – на осколки. Осиновая рощица возле застывшего пруда выглядит так, точно полтора десятка обглоданных рыбьих скелетов без голов поставили на хвосты, и они изо всех сил стараются не упасть, размахивая на ветру тонкими ребрами, и, не удержавшись, ты падаешь на сиденье, войдя в вагон на Лубянке, и до тебя вдруг доходит, что ехать надо теперь не в Сокольники, а с двумя пересадками до Первомайской. Темные стены тоннеля, темный лед над темной водой, сквозь которую торчит ржавая, покрытая инеем трава, темное карканье ворон и темные русла морщин у ее глаз, по берегам которых ты медленно пробираешься, осторожно переступая пересохшими губами, не наступая на тонкий, еще не окрепший лед, и вдруг налетает, путая ресницы, ветер, и ты достаешь телефон и начинаешь кричать в него, перекрикивая свист ветра и грохот поезда, что сейчас сейчас сейчас вернешься вернешься для того, чтобы вернуться вернуться, не обращая внимания на то, что сигнал такой слабый и на шкале всего одна, самая маленькая, палочка.