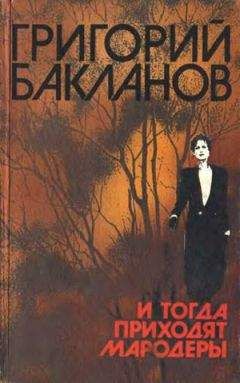— Но и — Берлин! — настаивала Елена Васильевна. — Я иногда слушаю, как они вспоминают вдвоем… Вот подлинные ненаписанные романы!
И ярким ногтем погрозила писателю, тот принял упрек, покаянно прижал ладонь к сердцу.
— Да, литература в долгу перед народом, надо это признать…
И полковник, окончательно произведенный из Сергея Федотовича в Андрея Федоровича, понял: отступать некуда. И рассказал про давний бой под Староглинской, в котором был он тяжело ранен, а после посмертно награжден, а знали бы, что жив, ему того ордена не видать, так он считал. Немцев они тогда не пропустили, это правда, но и своих полегло столько, что не подвиги он за собой числил, а за погибших корил себя. Вот этот бой и отдал он сейчас Усватову, от себя подарил, видно, так уж требовалось: позвали коня на свадьбу — значит, воду возить.
— Браво, браво! — зашумели, зааплодировали все.
— Нет, каков скромник наш Евгений Степанович!
— А мы ничего не знали.
— И не узнали бы!
И Басалаев сказал:
— Кто воевал, тот про себя не очень-то и рассказывает. А то приходят некоторые, требуют, стучат себя в грудь: мы, мол, мешками кровь проливали… А где мы воевали, мы молчим. Бывало, автомат в руки и — впереди всех.
Евгений Степанович, довольный, скромно отводил от себя славу:
— Не будем переоценивать мою роль. Сергей Федотович представил тот бой, будто чуть ли не один я…
— Не скромничай, не скромничай!
— Вот как выясняется, через столько лет.
— Это хорошо, живой свидетель нашелся.
— Я все же должен сказать со всей определенностью, что Сергей Федотович несколько умалил свою роль, а он тоже в том бою… Но не будем вдаваться в подробности.
— Нет, почему же! — требовала Елена Васильевна. — Подробности очень интересны. Подробности, подробности!
И она первая зааплодировала своими от природы крупными, для работы созданными, но уже холеными, надушенными и мягкими руками. И дамы поддержали, и, возможно, пришлось бы полковнику еще и подробности вымучивать из себя, но Евгений Степанович дальнейшее славословие пресек и отмел.
— Я просто поражаюсь другой раз, сама себе не верю, что он воевал с оружием в руках, так он в жизни бывает раним, — говорила Елена Васильевна растроганным голосом. — У нас тут береза стояла засохшая, надо было ее спилить. Я позвала рабочих. Когда она падала на землю, он не смог этого видеть, ушел в другой конец двора. «Ты слышала, как она застонала? Она стонала, как живая…» Вы не поверите, у него слезы были на глазах, я, женщина, и то так не переживала.
Но тут Басалаев, упираясь ногой под столом, а рукой — в лежанку, на которой сидел у стены, завозился, поднял себя тяжко.
— Я долгую речь произносить не буду, минуток эдак в сорок пять уложусь, если мне будет дано слово.
Слово ему дали, и Евгений Степанович, пока все шумели одобрительно, успел перешептаться с женой:
— Шофера Басалаева надо покормить.
— Их там вон сколько! Стоят вместе, курят.
— Отозвать в сторонку. Евангелише скажи. И проверь! Ненакормленный шофер — неуважение к хозяину. Басалаев может поинтересоваться.
—…Были мы как-то с Антониной моей Никаноровной — вон она сидит, не даст соврать, — были мы в театре. В ложе… А смотрели мы пьесу. И кто ж, вы бы думали, автор? Усватов. Евгений вот наш Степанович. Занимать такую должность и еще в свободное от работы время… Это, я вам доложу, дело непростое, пусть товарищ писатель, присутствующий здесь, на меня не обидится.
Писатель не обиделся, с полным пониманием кивал.
— Так что же мы свои таланты не ценим? А чтоб в гении у нас пробиться, так это надо прежде умереть. Помер раньше времени — гений! А возьмем хоть того же Шекспира. Ну, задал он вопрос: «Быть или не быть?» Так мы на этот вопрос отвечаем однозначно: быть!
— Бы-ыть! — закричали гости и зааплодировали.
И со стопкой в руке Басалаев расцеловался с Евгением Степановичем.
— Живи! Живи и созидай!
И Евгений Степанович расчувствовался и прослезился, хоть знал, что врет Басалаев, врет, а все равно как-то верилось.
Вот тут согбенно вбежал на террасу шурин, придерживая на себе целлофановую пленку, внес очередные шашлыки, прикрывая своим телом. И такой жар шел от его тела, что пленка вся побелела, запотела, а сверху с нее текло. Теперь только и заметили за шумом и гамом голосов, что дождь хлынул. А шашлыки уже никто не способен был есть, уже глаза им не радовались.
Дождь после тягостного зноя, давившего весь день, хлынул крупный, с градом. Белые градины били по стеклам, скакали по жестяным отливам подоконника. При закрытых окнах стало душно. Сверкали молнии, почти невидимые в дожде, но один раз так треснуло над самой террасой, так осветилось, что женщины закричали.
Охлажденные дождем, стекла террасы запотели от тепла, которым изнутри дышал дом и распаренные тела переевших людей. Где-то над кровлей, в дожде, а может, и над дождем пролетали самолеты, гудение возникало сквозь застольный шум и отдалялось, возникало и отдалялось. А потом, приблизясь, зарычало во дворе, и, протерев запотелое стеклышко, Евгений Степанович увидел: разгружается въехавший в ворота самосвал, выше, выше встает кузов, с него сползает рассыпчатая гора черного асфальта, вся в пару от дождя, и две фигурки в оранжевых жилетах припрыгивают, приплясывают вокруг нее с лопатами в руках.
Когда дождь стих, распахнули окна, и такой благодатью, таким легким дыханием повеяло из сада, от мокрой зелени, что все на террасе ожили, вытирали платками лица и шеи. Евгений Степанович выбежал глянуть хозяйским глазом, что делается. Мокрые от дождя студенты разносили лопатами и прикатывали жирный асфальт катком, впрягшись в него. И он опять увидел ту студентку, ту молодую женщину, которую отметил еще раньше. Она сидела тогда на траве, спустив в кювет ноги в подсученных до колен тренировочных штанах, стройные, золотистые от загара ноги, пила из пакета молоко, запрокидывая голову. Губы ее были в молоке, и она с таким вкусом жизни отхлебывала, какого он давно уже в себе не знал. И он позавидовал этой молодой жизни, потянуло к ней.
Она почувствовала взгляд, мельком, как на чуждое, доисторическое нечто, глянула тогда на него и отпила из треугольного пакета, передала его парню. Напрасно, напрасно она так глянула, он еще многим способен обрадовать, многое показать в жизни, чего она, бедняжка, и не повидает, жизнь прожив.
И сейчас, выйдя, он прежде всего ее увидал. Опершись подмышкой на лопату-грабарку с длинной рукояткой, перекрестив загорелые ноги, стояла она, чуть изогнувшись, и так хорош, так красив был изгиб молодого ее тела, так хороша была она вся на его глаза, разгоряченные несколькими стопками водки и вином! Королева в лохмотьях! Как можно, чтобы такая — в автодорожном? Почему в каком-то автодорожном? Во ВГИК ее. В ГИТИС. В МГИМО! Ах, не знает она своей судьбы.
— Где вы прятались от дождя? Как же так, надо было сказать… — мелко засуетился он. И — студентам, парням: — Туда, туда лопаток пяток асфальта подкиньте, там впадина. И — прикатать.
Он суетился так близко, что запах пота ее уловил от мокрой одежды, от ее молодого тела. Ему ударило в голову. Подогретый вином, он видел себя сейчас перед ней не шестидесятилетним стариком с крашеными волосами и не очень удачно, несмотря на большие возможности, вставленной нижней челюстью, от которой происходили определенные трудности при жевании, а вполне еще молодцом.
И тут заметил он метавшуюся по улице незнакомую женщину, мгновенно почувствовал опасность, исходившую от нее. Она металась от машины к машине, лицо ее было то ли в дожде, то ли в слезах, возможно, дачница чья-то, здесь и дачи сдавали овдовевшие семьи, хотя он, Евгений Степанович, всегда был против этого, в поселке не должно быть посторонних лиц. Она перебегала от шофера к шоферу, упрашивала, что-то у нее случилось, и проходивший мимо грибник в старой соломенной шляпе, дочерна пропотелой, в высоких резиновых сапогах, постоял с корзиной за спиной, с ведром в руке, сказал враждебно и громко:
— Да вон их сколько машин без дела стоит!
И ткнул палкой во двор, но Евгений Степанович уже поспешно ретировался.
Он вернулся на террасу. Елена разрезала арбуз. Огромный, сахарный, красный — это было то самое, что требовалось сейчас переевшим людям: освежало. Его специально прислали к этому дню из южных краев, в Москве в эту пору арбузы еще не продавались. Скромные, безмолвные, загорелые люди внесли один за другим несколько неподъемных арбузов и дынь — исключительно из благодарности — и так же скромно и молча удалились.
Пока на кухне в пару Евангелиша срочно перемывала горы посуды, Елена округлыми движениями большого ножа отрезала огромные ломти и раздавала на чистых тарелках, которые непрерывно поставляли из кухни. Она срезала ломти вкось, так что середина заострялась конусом, и вот этот конус, самую сахарную середку, как бы мешавшую ей отрезать всем равномерно, она сняла ножом и очень естественно переложила в тарелку себе. И продолжала вновь отрезать и передавать.