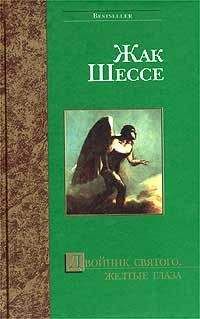Я поднялся первым, сон немного освежил меня, и я решил не позволять себе приходить в замешательство, которое мне мог принести день. Я просто хотел добра этому ребенку. Мы усыновили его потому, что он был брошенным и никому не нужным, и потому, что у нас не было детей. Я думал, что теперь мы должны разбудить его, находиться вместе с ним, искренне радуясь этим родительским заботам, которых мы еще не знали. Я был переполнен желанием познать это счастье, я не сомневался в своей уверенности. Я горячо желал, чтобы Анна обрела душевное равновесие в этих заботах, а я – ту солидность, которая мне подсказана моим возрастом, и осуществил свои творческие планы. Я хотел, чтобы Луи был здесь счастлив, начал разумную и целеустремленную жизнь…
Я первым вошел в кухню; милая Мария уже приготовила кофе и поставила на стол корзину с вишнями. Я глядел в окно на лес, такой зеленый на фоне синего неба. Появилась Анна – отдохнувшая, свежая, в платье без рукавов, потом на лестнице послышались осторожные шаги. Вошел Луи, улыбнулся и поцеловал нас. Мы пили кофе и разговаривали ни о чем. «В доме царит порядок, – говорил я самому себе. – Возможно, так будет и впредь. Я спокоен. Анна изящна и молода». Луи смеялся, отвечал на наши вопросы, разговаривал с нами. Все было в порядке. Собранные загорелой, ловкой рукой Марии вишни блестели на белой тарелке; она испечет сочный пирог, и мы съедим его, вернувшись с прогулки. Сегодня – первый день, который Луи целиком проведет рядом с нами. Я посмотрел на него: он бросал на меня быстрые взгляды, поглощая медовые пирожные и жадно запивая их молоком.
– Не шуми так, – сказала ему Анна, смеясь, и я видел, как она довольна, что может произносить эти слова с материнской заботой.
Мгновение спустя мы втроем очутились на лесной дороге, и, когда она становилась особенно узкой, я пропуская вперед Анну и Луи, болтавших и шедших бок о бок. Мы долго гуляли под сенью мощных деревьев, в листве которых пели птицы. Анна и Луи двигались медленно, словно были утомлены какой-то внезапной радостью. Я сравнивал их тела и походку: Анна шла легко и чуть развязно, Луи – осторожно; его плечи уже были довольно широкими, а волосы блестели, когда солнечные лучи вдруг падали на них в просветы между деревьями. Анна взяла мальчика за руку, и этот мягкий жест взволновал меня. Мы остановились посреди поляны, и Анна повела ладонью по волосам Луи. В деревне никто уже не проявлял особого любопытства по отношению к нам, и мы шли спокойно, не вызывая вчерашнего интереса. В кафе «Олень» я вновь отметил, что Луи волнуется в присутствии посторонних людей. На публике он опять почувствовал страх, заставивший его озираться в поисках пути отступления, как будто с минуты на минуту он ждал, что его атакуют. Он беспрестанно измерял взглядом расстояние до двери, окна и, время от времени, до стойки, за которой можно было спрятаться. И вновь я приписал этот страх тому, что Луи вырос в приюте: в тринадцать лет он был там одним из самых маленьких и был вынужден защищать свою шкуру от пятнадцати– и шестнадцатилетних верзил, ожесточенно издевавшихся над ним. У меня была возможность выслушать откровения взрослого человека, когда-то воспитывавшегося в интернате, и они, эти откровения об «исправительном учреждении», говорили только одно: это гнусное место. Побои, мелочность, неразбериха – все это культивируется там. Драки по принципу «зуб за зуб», стенка на стенку, жестокость по отношению к слабым, рахитичным – Бог знает, что еще творится в этих стенах. Несколько лет назад я слышал историю об одном пареньке из приюта, расположенного недалеко от Мёртона: он повесился, чтобы покончить с этим адом. Я представил себе его мучения. День за днем я воображал себе этого несчастного мальчика, его беспрестанные мучения, наказывавших его воспитателей (людей, как правило, глупых и сердитых), грязные поступки старших по группе. Чудовищная пища, ужасные спальные комнаты, молельни, мастерские, ватерклозеты… В одном из интернатов для девочек воспитанница умерла, задохнувшись в чулане, куда ее заперла надзирательница. На девочку надели смирительную рубашку. И в течение восьми часов она находилась в этой ужасной дыре.
Вот как я объяснял испуганный вид Луи и пообещал компенсировать всю подлость приюта, всю ненависть, которую там проявляли по отношению к нему. Я представил его, беззащитного, в руках сильных подростков, загнанного в угол в приютской столовой, смотрящего на своих палачей…
И новая волна нежности нахлынула на меня, и внезапно солнечный свет, прогулка, радость от этого мгновения наполнили меня. Анна тоже была счастлива; ее рука лежала на плече мальчика. И за окном был радостный пейзаж – вязы, фонтан, крыши ферм, церковь с немецкой колокольней, дорога, убегающая по склону холма. Я решил запомнить это мгновение и в минуты сомнений в своих размышлениях отталкиваться от него.
Но тут внезапно случилось нечто, переполнившее меня невыразимой тоской. Едва мы вышли из кафе, как Луи отскочил в сторону и бросился бежать по улочке через поляны, в сторону мусорной свалки. Опередив меня, Анна понеслась за мальчиком. Я увидел, что перед кафе начал собираться народ, и тоже побежал за ними, но быстро устал. Я увидел, что Луи пересек полянки и рванул напрямик к свалке. Мы догнали его на краю грязной лужи, куда он не отважился прыгнуть. Анна, несмотря на свое отвращение, сделала все, чтобы помешать мальчику броситься в эту мерзкую лужу, скрыться от нас. Она вела его по грязи и нечистотам, боролась с ним; вдруг она вскрикнула и остановилась: на ее щеке краснел укус, кровь стекала по подбородку и шее, она даже не пыталась ее стереть и стояла неподвижно, с дрожащими губами, бледная от испуга, что было особенно заметно в лучах солнечного света.
Луи тоже остановился, тяжело дыша, взгляд его застыл; он, как и Анна, был бледен.
Мы молчали.
Мы оба взяли его за руки.
Потом мы вернулись домой; в небе над нами кричали жаворонки, и нам пришлось идти через деревню, под осуждающими взорами ее жителей.
Мне было трудно обманывать себя и побороть ту ненависть, которую я испытал к мальчику в эти мгновения. У меня родились подозрения, и ничто не могло их рассеять. Конечно, я вновь и вновь повторял себе, что Луи был несчастен, что его детство прошло в грязной обстановке, что его поступок – лишь следствие всех тяжелых испытаний, выпавших на его долю. Однако я видел преувеличенную и потому безобразную радость Анны, на щеке которой отпечатались следы зубов. Она не пожелала заклеить рану пластырем, дабы не драматизировать произошедшее, она едва смыла засохшую кровь, как забыла про нее. Мы обедали так, словно ничего не случилось, и встретили аплодисментами огромной вишневый пирог, испеченный Марией. Луи молчал, и его спокойствие бесило меня. Я, чувствуя себя более мерзким, чем воспитанник приюта, придумывал разные наказания и меры воздействия, опустившись до уровня надзирателя и проклиная этот янтарный взгляд. Наконец я не выдержал, вскочил в машину и поехал в деревню Ля-Круа, чтобы выпить там несколько стаканов.
Когда в четыре часа дня я вернулся, новое зрелище открылось моим глазам. На террасе, обнявшись, почти совсем голые, на одном надувном матрасе спали Анна и Луи. Мальчик прижимался к животу моей жены. Я застыл как вкопанный, пот прошиб меня. Никогда не забуду этого мгновения: тяжело ступая, я поднялся по лестнице и заперся в кабинете.
Я родился в горах, и, может быть, именно поэтому у меня развито чувство справедливости, возвышенное, головокружительное чувство, и ненависть ко всему неправедному. Я ненавижу скользкость, таинственность, которые, будто дыры в карманах, наполнены пустотой и скрытой угрозой. «Дьявол прячется в этих дырах, – говорила моя мать, – и главное – это послушание!» И вот уже сорок лет я послушен: это плохо, грязно, нечисто – все, что противно установлению Царствия Божьего на земле. Так говорила моя мать. «Все, что противно…»
Когда мои родители принимали на работу новую служанку, моя мать, достойная супруга моего отца, проповедника, отмывала ее в прачечной большим куском марсельского мыла; я и сегодня вижу эту картину: она стоит перед дверью, ведущей внутрь, она ждет, пока ее пленница тщательно вымоет себя. Если бы вы видели, что происходило с матерью, когда она видела случайно несмытую грязь! Она распахивала дверь и принималась разглядывать со всех сторон одежду девушки. Новая служанка должна была встать на колени возле гладильного столика, а мадам Дюмюр осматривала, нет ли на ней еще где-нибудь грязных пятен. Только потом девушка могла одеться, но уже не в свою прежнюю одежду: ее дезинфицировали в течение недели. Мадам Дюмюр покупала ей другую: в магазине стандартных цен «Орел», в отделе для пожилых дам она выбирала панталоны и рубашку, скрывавшую женские формы, как и полагалось. Ни вопросов, ни возражений она не допускала. Мадам Дюмюр запрещала красить губы, ногти, пользоваться духами. Ты пришла не гулять! Девушка работала и молчала. Если она начинала возражать, ее тут же вышвыривали за дверь. Отхлестав по щекам. Мадам Дюмюр называла это «менять свой мир».