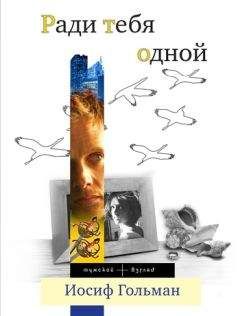Ознакомительная версия.
Расстреливать в стенах обители перестали, но горя здесь по-прежнему было много больше, чем радости. Да и сами стены обильно поросли травой, а сквозь разрушенные купола четырех монастырских храмов начали прорастать деревья.
Положение изменилось лет десять назад, когда в обитель добровольно пришел совсем молодой священник, веселый и доброжелательный отец Всеволод. Взяв себе обетом восстановление обители, он в считаные годы совершил невозможное: перевел малолетних преступников в соседнее с монастырем здание, бывшую фанерную фабрику (впрочем, не бросив пацанов на попечение нашей недоброй пенитенциарной системы, монахи остались там частыми гостями, да и рацион воспитанников сильно отличался от казенного), поднял всех, кого можно, на восстановление ликвидированных советской властью и временем монастырских храмов и корпусов.
Глинскому о Мерефе рассказывал еще отец. Восторженно рассказывал. Поэтому до первого посещения он представлял себе Мерефу как нечто полусказочное. И – редкий случай! – попав сюда, вовсе не разочаровался: Мерефа и в самом деле оказалась божьим чудом. Тут надо сказать, что отец Николая Глинского, Мефодий Иванович Глинский, был известным в узких кругах философом-теологом, никоим образом не желавшим быть повязанным с официальной, разрешенной коммунистами церковью. Такое поведение не могло поощряться, поэтому юный Глинский чаще встречался с папой на свиданиях в тюрьме, чем дома. На воле Глинский-старший работал в разных местах. Если начальство было бдительное – то сторожем или сапожником. Если не очень – то преподавателем истории в школе или библиотекарем. Но на воле он все же был не часто. И со своим лучшим, а также единственным другом Виктором Геннадьевичем Кузьминым (в просторечье Кузьмой или Витьком) Глинский-младший познакомился на Среднем Урале, где Глинский-старший отбывал очередное заключение, а Николай, оставшись совсем без родственников, впервые попал в детдом.
Такие или подобные мысли и воспоминания проносились в как всегда успокаивающейся перед обителью голове Глинского, как вдруг звонко и торжественно заиграли разом все монастырские колокола. Взрослое население маленького «Сузуки» встрепенулось и перекрестилось: Глинский – спокойно и естественно, Кузьмин – как будто вспоминая, как держать пальцы и в какой последовательности осенять себя крестом. Мальчик не осенил себя вовсе, но не потому, что выражал неудовольствие церковным ритуалом, а потому, что был полностью захвачен веселой и всеобъемлющей игрой колоколов. Ему казалось, что и солнце светит, и птицы с бабочками летают, и сосны качаются под ветром в такт этой чарующей музыке. Он даже руками замахал, пытаясь дирижировать колокольным хором. Глинский улыбнулся, наблюдая в зеркальце заднего обзора за восхищенным лицом сына. Сыном он был доволен.
– Смотри, как спонсоров встречают, колокольным звоном! – пошутил Кузьмин.
– Не болтай! – уже серьезно осек его Глинский. Странное дело – неугомонный Кузьма смиренно замолчал. В таких мелких эпизодах немедленно читалось, кто здесь главный.
Сразу за воротами обители их встречал сам отец Всеволод. Конечно, и потому, что Глинский с Кузьминым были одними из основных инвесторов восстановления монастыря. Но, главное, потому, что отец Всеволод искренне симпатизировал Николаю Мефодьевичу. И, что чуть более странно, его малолетнему сыну. Отец Всеволод серьезно считал Вадика личностью, выделенной богом. Может быть, для каких-то особенных задач. Парнишка и в самом деле был необычен. Абсолютно незлобив – это, понятно, в папу. Очень эмоционален. Безусловно, талантлив. Мог одним росчерком папиной ручки изобразить только что увиденную птицу. Причем в каждом миллиметре чернильного следа ощущался ее упругий воздушный полет. Мог, удивляя и восхищая окружающих, повторить на специально купленном дорогом рояле только что прозвучавшую по радио сложную мелодию. Мог, один раз понаблюдав за работой механика, разобрать и вновь правильно собрать карбюратор любимой маленькой «Витары». Правда, мог целый день пролежать на диване, думая о чем-то своем и, очень похоже, нездешнем.
Отец Всеволод обнял и благословил Вадьку, тепло поздоровался с Глинским. Потом – гораздо прохладнее – с Кузьминым. Это задело обоих. Кузьмину очень хотелось уважения настоятеля обители, которой он так усердно помогает. А отцу Всеволоду было стыдно, что его сознание до сих пор раздваивается: для отца Всеволода все люди – создания божьи, а значит, всех их надо любить и жалеть. А для Всеволода Цивилева, после пострига ставшего отцом Всеволодом, люди делились на порядочных и подонков. И Цивилев не мог относиться к ним одинаково.
Глинский, почувствовав неудобную паузу, закрыл ее дежурным вопросом:
– Как дела, отец Всеволод?
– Нашими общими заботами – ничего, – улыбнулся настоятель. – Дорогу, конечно, подлатали не очень, но не сравнить с тем, что было.
– Дорогу исправим, – влез Кузьмин.
– Спасибо, – смиренно поблагодарил отец Всеволод.
– Если все пойдет по плану, в конце года сможем проинвестировать восстановление надвратной церкви и всего периметра стены, – продолжил Глинский.
– Замечательно! – обрадовался настоятель. – Значит, к весне будем практически в первозданном виде. Дальше главной задачей станут жилые палаты.
– А захотят жить братья в бывших камерах? Говорят, в этом корпусе расстреливали.
– Будем молиться, – то ли ответил, то ли заговорил о новом священник. – Мы должны быть открытыми для всех, кто пожелает посвятить себя богу.
– А много желающих принять постриг?
– Очень, – вздохнул отец Всеволод. – Сейчас у нас двадцать шесть монахов. А заявлений – четыреста! Даже если каждый десятый представляет себе, что он хочет, и то сколько получается. А еще ведь странноприимные палаты делать надо. Люди приходят молиться из дальних мест. Монастырь должен принять всех.
– Всех все равно не примешь, – посочувствовал Кузьмин.
– Но надо стремиться, – не согласился священник.
Они обговорили строительные и финансовые дела, и Глинский заторопился в город.
– Может, разделите с нами трапезу? – предложил настоятель.
Николай Мефодьевич с сожалением отказался, как ни хотелось ему задержаться в этом в прямом смысле слова благословенном уголке – не позволяли дела.
– А где Вадька? – обернулся он, ища сына.
– Может, в дендрарии? – предположил отец Всеволод. Он подозвал проходившего мимо мальчика в обычной, не монастырской, одежде и попросил разыскать Вадимку.
– А этого я еще не видел, – кивнул вслед ушедшему пацану Глинский.
– Редко заезжаете, Николай Мефодьевич, – укорил его настоятель. – Ванечка у нас уже больше месяца. С вокзала привезли, избитого, обозленного. Семьи нет, – вздохнул священник.
– А как же документы?
– Какие у них документы? У нас уже семеро таких живут. Пока ни о ком не спрашивали.
– Осень скоро. Со школой договорились?
– Да, будут в поселок ходить.
– Если нужно что-то, вы скажите. Я в хороших отношениях с главой вашего района.
– Я тоже, – улыбнулся настоятель. – Нет, вроде все нормально. Если можно, для пацанов наших семь комплектов одежды школьной, портфели, учебники, тетрадки.
– Это все сделаем, – с удовольствием заверил Глинский и обернулся к Кузьмину: – Запиши, Витя, чтобы не забыть.
– Я никогда ничего не забываю, – отозвался Кузьмин и улыбнулся. Правда, улыбка у него все равно получалась не слишком добрая.
– Пап, я пришел, – сообщил подбежавший Вадим. Приведший его воспитанник остановился поодаль. – Смотри! – Он протянул сжатую в кулачок ладонь и разжал пальцы. Глинский ожидал увидеть там цветок или, в худшем случае, птенца. А увидел мастерски изображенный его дорогущим «паркером» абрис куполов главного храма обители.
– Ну ты даешь! Такой хороший рисунок! Что ж, теперь руки мыть не будешь?
– У меня не было бумаги, – оправдался сын.
– Ладно, поехали.
С глубоким сожалением покинул Глинский обитель. Только здесь ему всегда было легко и спокойно. Только тут он ощущал себя на своем месте.
Вечерело. Стволы старых сосен бронзовели на заходящем солнце. Уморенный Вадька спал на заднем сиденье. Слева сосредоточенно молчал Кузьма, сменивший Глинского за рулем. Глинский мельком взглянул на его профиль. Наверное, и в самом деле друзей не выбирают. Как и родителей.
А может быть, и как судьбу: если б не Вадька – наверное, ушел бы в монастырь. Отец Всеволод не откажет, даже если в столе у него четыреста таких заявлений. Может, и сан бы принял, знаний более чем достаточно – еще отец постарался.
Но тогда надо сначала исповедаться. А Глинский очень не хотел кому бы то ни было исповедоваться. И особенно – отцу Всеволоду. Он с удовольствием забыл бы многое. Но – не дано.
Даже удивительно, как быстро – и как просто! – в жизни порой происходят радикальнейшие перемены. Полгода назад я умышленно выстрелил в ту сволочь. Странно, но история не имела последствий, если не считать, что мне по-прежнему, хотя и гораздо реже, снится белобрысый мальчонка. Каждый раз после такого сна я выпиваю стакан водки и звоню Ивлиеву сказать, что болен и на работу не приду. Он укоризненно молчит, но на следующий день я стараюсь вдвойне, и пока мне все сходит с рук.
Ознакомительная версия.