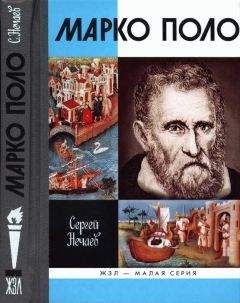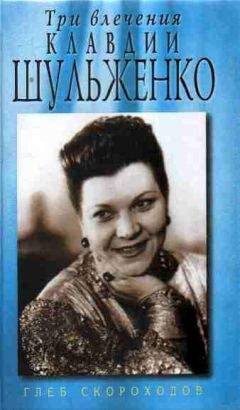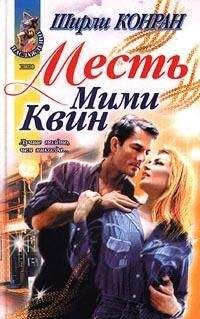Военнопленный — это национальный мученик, искупительная жертва, страдающий Христос… Военнопленный — это массивное изможденное лицо с тяжелым взглядом немого упрека… Маршал говорит только об этом, и к селу и к городу, со слезой на глазу. Вся Франция страдает и искупает свою вину двумя миллионами военнопленных. Плакаты на улицах уже не восхваляют шоколад Менье{7} или вату Терможен{8}. Они выплевывают из стен длинные патетические силуэты цвета хаки, с желто-зеленым лицом цвета неспелого лимона, со впалыми щеками, — но не очень впалыми, осторожно, а то можно будет подумать, что немцы их плохо кормят, пропагандаштаффель это бы не понравилось, — с темными глазными орбитами, в которых пылает горячечный взгляд. Горячечный, но прямой и открытый. И голубой. Взгляд француза, арийца. Красивые мучительные афиши с цветами одновременно яркими (надо, чтобы в глаза бросалось) и печальными (ну, естественно, художник, это ведь мастерство!) подают военнопленного под всеми соусами: чтобы обязать нас подписываться на государственный заем, чтобы призывать нас любить Маршала, работать не покладая рук, выносить лишения с улыбкой, собирать пожертвования на Зимнее вспомоществование Маршала{9}, экономить уголь, который нам не подвозят, разоблачать диверсантов, отправляться с легким сердцем в Германию точить снаряды, проклинать англичанина (говорят ведь: «коварный Альбион»), еврея, большевика и поросенка-янки, с энтузиазмом сотрудничать с великодушным победителем, не слушать Би-би-си, вступать в Партию Французского Народа{10} или в другие штучки-дрючки в том же духе… В общем, военнопленный неотступно преследует совесть француза. Нечистую его совесть. Никогда не следует забывать: именно наше наплевательство и привело сюда, за колючую проволоку, всех этих мучеников, которые страдают за нас. Да еще за наше обжорство: оплаченные отпуска, сорокачасовая неделя, социальное страхование, индейка с каштанами под Рождество…
От всей политики во Франции осталась одна пропаганда. Два миллиона военнопленных, — нам повторяют это так настойчиво, что ни одного нуля не пропустишь!.. В каждой французской семье есть хотя бы один, который находится «там». Вся Франция целиком причащается религии раненой Родины. Маршал Петен{11} — Бог-отец, Военнопленный — его страдалец-сын. Колючая проволока — символ, не хуже креста. А перед таким символом даже кюрененавистники способны обнажить голову, не краснея.
Речи, газеты, радио тоже, конечно (надо думать, т. к. в наш дом радиоприемник так никогда и не смог проникнуть), пережевывают и воодушевляют искупление, размазывают себе по лицу самоуничижение, без конца подводят наши ужасные, но столь заслуженные несчастья к необходимости с достоинством смириться и говорить: «Спасибо тебе, Боже!», и подставлять другую щеку. Всему придается плаксивый тон, церковный душок, а культ военнопленного — самое завершенное из его выражений.
Военнопленный, наша кровоточащая рана, наши угрызения и наша жалость, грядущий судия, перед которым нам придется отчитываться…
Так вот, здесь он, этот Военнопленный! Прямо передо мной, в пятидесяти метрах.
Не задумываясь ни минуты, давя других, пролезаю через окно, бегу к желто-горчичной группе. Додумался не один я, а человек двадцать. Никто нам не препятствует. Неприметный серо-зеленый солдатик с автоматиком за плечом рассеянно присматривает за военнопленными, набивает себе трубку, примостившись одной ягодицей на груде шпал.
— Привет, ребята! — говорим мы взволнованно. — Мы из Парижа! Вернемся туда все вместе, и с вами тоже, да скоро! Не горюйте! Нахлебались вы! Они уже в жопе!
Парни глядят на нас, опершись на черенки лопат, но ни возбуждения, ни волнения, ничего такого у них нет. Восторга тоже, как будто. Как селяне, когда смотрят, как парижане весело вытаптывают пшеницу, чтобы подойти поздоровкаться. До такой степени, что мы даже подумываем, не ошиблись ли.
— Вы же французы, правда? Военнопленные?
Здоровенный невозмутимый парень в конце концов отвечает:
— Ну, может, и да. Ну и что из того?
Протягиваем мы им гостинцы, сладости, отщипанные от нашего провианта. По крайней мере, у кого они есть. Печенье, сардины, сушеный инжир, куски сахару или просто остатки колбасы и хлеба, розданных в Меце. Я отдаю им пачку курева, которую Шарло Брускини всучил мне, когда пришел с моей матерью на Восточный вокзал меня провожать. Парни суют все в карманы, спасибо, но без восторга, как произносит свое «спасибо» церковный служка при сборе пожертвований. Вовсе не чувствуем мы себя Дед-Морозами, как хотелось.
Ощущается как бы неловкость. Смотрим мы друг на друга. И вдруг тот плакат, который был между нами, разверзся, плакат того самого военнопленного с лицом неспелого лимона, бледного и патетичного. И здесь, перед нами, — краснорожие мужики, пышущие здоровьем, укутанные в шерсть, похоже, что и работенка-то им не в тягость.
Спокойный детина, наконец, рожает:
— И куда это вас так несет?
Ему явно плевать, но сказал просто так, из вежливости и приличия.
— Едем-то мы куда? Если б мы знали! Нас забрили, знаем только, что вкалывать где-то в Германии, вот что мы знаем.
— Но вы же им небось сказали, куда хотите податься?
Смотрим мы друг на друга, молокососы. Аж обалдели.
Вроде как недоразумение вышло.
— Думаешь, нас спросили? — говорю я.
— А когда вы контракт подписывали, не было разве там прописано? По мне, такие типы, как вы, раз решили работать на бошей, и есть настоящие говнюки, вот что я вам скажу!
— Да мы же не добровольцы, черт подери, мы все здесь по принудиловке, какого черта, мы такие же военнопленные, как и вы! Это петеновские фараоны нас забрили…
Тут уже парень начинает серчать.
— Не смей так про Петена, понял? Петен — это Верден. Отец мой там был, знает. Петен, он обведет их всех вокруг пальца, всех этих бошей! А потом, тут есть разница: мы-то военнопленные, то есть призывные. Поэтому нечего болтать ерунду.
Руки у нас опустились.
Один паренек из Парижа злобно запускает:
— Эй, призывные, если бы вы не драпанули в сороковом, как зайцы…
Врезаю ему локтем под ложечку. Уж чего-чего, а этого-то не надо, я чувствую. Восклицаю:
— Да вы ничего не знаете! Совершенно! В Париже люди мрут с голоду. Французские фараоны, легавые вашего Петена, они вовсю сработались с фрицами…
— Петена не трожь, понял? Петен — это Французская армия, и мы тоже. Скажу я вам, что просто стыдно, когда такие говнюки, как вы, приезжают на заработки, помогая бошам выиграть войну, пока мы изнываем от нищеты и страданий вдали от Родины, да еще и жен не видим, вот что я вам скажу.
Друзья его, все сообща, молча кивают.
Фриц на своей куче шпал решил, наконец, что хватит. Подходит вразвалочку, орет что-то, что заканчивается на «Лоос!», подкрепляя жестом руки, который легко понять. Детина ему:
— Не пизди, фриц! Тебе что, плохо здесь, с нами? Не лучше ли тебе здесь, чем по снегу у Иванов ползать? На-ка, держи, чтобы ты мог дотянуть до конца войны.
Протягивает ему голуазку{12}. Тот говорит: «Та, та, фойна́ польшо́й пета́!» Прикуривает и поворачивается к нам: «Aber los! Los!»
Так что стоим мы, щупленькие, бледненькие парижата, перед этими грузными крестьянами, четко усвоившими свой официальный статус национальных героев, выдаивающих слезу в страшные исторические эпохи, да они, кстати, твердо верят и в свое мученичество, и в нашу недостойность, так что, что ты тут скажешь? Каждый ведь одинешенек в своей шкуре, чертовски!
Вообще-то, какие-то «Лоос!» начинают раздаваться и со стороны нашего поезда — стало быть, он снова трогается, пора назад. «Ну, ладно, привет!» — говорим мы. Один военнопленный тянет меня за рукав. Что-то мельком вытаскивает из-под полы шинели.
— Светит?
Плитка шоколада. Читаю: «Kohler». Швейцарский.
— Двадцать марок. Переплавишь за сорок какому-нибудь фрицу, запросто!
— Но марок-то у меня нет!
У меня действительно не было ни гроша.
— Часы-то у тебя есть, хотя бы? Отдам за часы две плитки.
Да нет же, нет у меня часов. Парень запахивает шинель. Делает еще одну попытку, не слишком уверенно:
— Сигареты, американские, светят?
— Нет ни гроша, сказал же! Но у тебя-то это откуда?
Тот сделал неопределенный жест.
— Посылки, Красный Крест, комитеты… Выкручиваемся, меняем…
Вот так, еще как выкручиваются! Знакомо. Как в Париже, в общем, один хрен! Ни черта не колючая проволока! Одни хитрюги! Маленькие и большие. Время жулья. Чувствую себя исключенным, вроде как ни при чем, вроде как дуралеем. Как на танцах. Танцевать не умею, блатовать не умею, — калоша полная. Заклинивает с бабьём, заклинивает со жраньем. Только вкалывать и умею. Как папа, как мама. «Покуда две руки есть — с голоду не помирают», — говаривала всегда мама, когда я был маленьким. Очень этим гордилась. Куда там! Если у тебя только это и есть, руки твои, даже крепкие и не ленивые, с голоду не помрешь, ладно, и только. В нормальное время. Пословицы с ладными морализаторскими усищами, — они для нормальных времен. А в ненормальное время, как сейчас, с твоими двумя руками, — да хоть бы и с четырьмя, — подохнешь ты с голоду, и к тому же еще прослывешь мудозвоном. Мама считает, что это несправедливо, а главное, ненормально, — будто Боженька свихнулся. В четырнадцатом, — что ни говори, — такой шпаны не было!