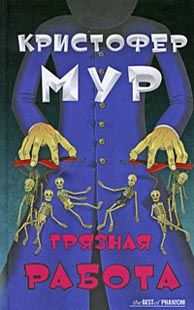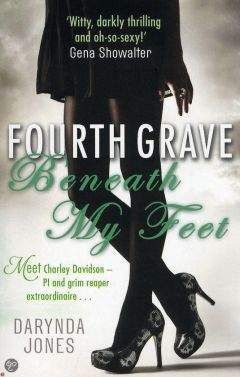Последние два года бизнес катился под уклон. Казалось, людям больше не хочется нести свои беды в бар. Бывали времена, когда в любой день недели на стойке висело три-четыре парня – они вливали в себя пиво и выливали друг на друга горести, а ненависти к себе в них скапливалось столько, что они готовы были сломать себе позвоночник, только бы не видеть собственного отражения в большом зеркале за стойкой. В любой вечер все табуреты занимали бедолаги, которые ныли, ворчали и скулили ночь напролет, переставая ровно на столько, чтобы спотыкаясь добрести до уборной да скормить лишнюю монету музыкальному автомату, воспроизводившему свою обширную коллекцию гимнов жалости к себе. Уныние помогало продавать алкоголь, а в последние годы уныния стало до обидного мало. В нехватке тоски Мэвис винила процветающую экономику, Вэл Риордан и овощные диеты и боролась с коварными лазутчиками тем, что устраивала “счастливые часы”, когда по цене одной жирной мясной закуски можно было купить две (ведь смысл “счастливых часов” именно в том и состоит, чтобы очиститься от счастья, разве нет?), однако преуспела только в том, что прибыль упала вдвое. Если Хвойная Бухта больше не в состоянии производить собственную тоску, ее нужно импортировать. И Мэвис начала искать блюзового певца.
Старый негр был в темных очках, кожаной шляпе и сильно ношенном черном костюме, слишком шерстяном для такой погоды. Поверх гавайской рубашки, на которой отплясывали хулу девчонки без лифчиков, спускались красные подтяжки, а на ногах скрипели ботинки с черно-белыми носами. Негр положил гитарный чехол на стойку и влез на табурет.
Мэвис с подозрением оглядела его и прикурила “тэрритон-100”. Еще девочкой ее научили не доверять черным.
– Чем травиться будешь?
Негр снял шляпу, и полированным орехом заблестела бурая лысина.
– Вино вы тут держите?
Мэвис подбоченилась, шестеренки и поршни защелкали:
– Красное пойло или белое пойло?
– А у пойла появился выбор. Раньше имелся только один букет.
– Красного или белого?
– Какого слаще, сладкая моя.
Мэвис шарахнула стаканом по стойке и наполнила его желтоватой жидкостью из запотевшего кувшина.
– Это будет трёха.
Негр протянул руку, массивные острые ногти царапнули поверхность, длинные пальцы изогнулись щупальцами – рука напоминала морскую живность, барахтающуюся в отливе, – и промахнулись дюйма на четыре.
Мэвис воткнула стакан негру в руку:
– Ты слепой?
– Нет, просто тут у вас темень стоит.
– Так сними очки, идиёт.
– Нельзя, мэм. Очки входят в сделку.
– В какую сделку? Только попробуй мне тут карандаши продавать. Терпеть не могу побирушек.
– Я – блюзмен, мэм. Слыхал, вам того и надо.
Мэвис посмотрела на гитарный чехол, на негра в черных очках, на длинные ногти на его правой руке и короткие – на левой, на шишковатые серые мозоли на кончиках пальцев и сказала:
– Могла бы догадаться. А опыт есть?
Старик рассмеялся – смех его зародился в глубине тела, по пути наверх сотряс плечи и вырвался из горла, точно паровоз из тоннеля.
– Сладкая моя, у меня опыта поболе, чем у бродячего борделя. Ни разу пыль не садилась на Сомика Джефферсона – с того самого дня, как Господь Бог уронил его на этот здоровый ком пыли. Сомик – это я и есть.
А руку подает как неженка, подумала Мэвис, – только пальчики протягивает. Она и сама так делала – пока ей не заменили изъеденные артритом суставы. Старый блюзовый певец с артритом ей без надобности.
– Мне человек до Рождества нужен. Сможешь задержаться, или на тебя пыль сядет?
– Я так полагаю, что немного притормозить не грешно. На Восток возвращаться – так ноги от холода протянешь. – Он обвел взглядом бар, сквозь черные очки пытаясь разобрать что-то в грязи и дыму, а потом повернулся к ней. – Да, я, наверное, смогу себе гастроль немного отодвинуть, если... – Здесь он ухмыльнулся, и Мэвис заметила золотой зуб с выгравированной на нем музыкальной нотой. – ...если деньги будут правильные.
– Получишь комнату, харч и процент с бара. Притащишь клиентуру – заработаешь.
Негр задумался, поскреб щеку – седая щетина заскрипела, точно зубная щетка по рашпилю, – и ответил:
– Нет, сладкая моя, притащите их вы. А стоит им услыхать, как Сомик лабает, они прибегут за добавкой. Так вы какой процент имели в виду?
Мэвис огладила поросль у себя на подбородке, распрямив волосы до полных трех дюймов.
– Сначала мне самой надо услыхать, как ты лабаешь.
Сомик кивнул:
– Это можно.
Он откинул защелки чехла и извлек блеснувший сталью “Нэшнл”. Из кармана вытащил спиленное бутылочное горлышко, и оно с вывертом село ему на левый мизинец. Сомик взял аккорд – проверить настройку – и сдвинул боттлнек с квинты на нону. Горлышко затанцевало там высоким протяжным воем.
Мэвис вдруг почудился запах какой-то плесени – или мха, наверное, но влажность в баре изменилась совершенно точно. Она принюхалась и оглянулась. Пятнадцать лет ей не удавалось различить ни единого запаха.
Сомик ухмыльнулся:
– Дельта.
И пустился в двенадцатитактовый блюз: линию баса вел большим пальцем, высокие ноты визжали из-под зажима, он раскачивался на табурете, а неоновая вывеска пива “Курз” над стойкой играла разными красками, отражаясь в его лысине и очках.
Дневные завсегдатаи оторвались от стаканов, на секунду перестали врать, а Ловкач МакКолл даже облажался с прямым на восемь шаров за бильярдным столом в углу, чего раньше почти никогда не делал.
И тут Сомик запел – сначала высоко и томительно, потом ниже и с наждаком в голосе:
Одна старая хрычовка на Побережье держит бар.
Говорю вам – эта старая хрычовка держит свой дешевый бар.
А окажись в ее кровати —
Она снимет и с тебя навар.
И замолчал.
– Ты принят, – сказала Мэвис. Из ящика со льдом она вытянула кувшин белого пойла и плеснула в стакан Сомику. – За счет заведения.
Тут дверь распахнулась, грязь, дым и осадок блюза прорезал солнечный свет, и внутрь вступил Вэнс Макнелли, санитар Пожарной бригады Хвойной Бухты. Он громыхнул рацией о стойку и объявил всем, ни к кому в особенности не обращаясь:
– Знаете чего? Пилигримша повесилась.
По завсегдатаям прокатилась волна тихого бурчания. Сомик определил гитару обратно в чехол и поднес ко рту стакан:
– Ну еще бы – в этом городишке печальный денек начинается рано. Еще бы.
– Еще бы, – эхом отозвалась Мэвис и хмыкнула, точно гиена из нержавеющей стали.
Смертность от депрессии – пятнадцать процентов. Пятнадцать процентов всех пациентов с сильной депрессией лишает себя жизни. Статистика. Жесткие цифры в очень хлипкой науке. Пятнадцать процентов. Покойников.
Вэл Риордан повторяла про себя эти цифры с того момента, как ей позвонил Теофилус Кроу, но легче после того, что сделала Бесс Линдер, ей не становилось. Вэл никогда не теряла своих пациентов. А у Бесс Линдер и депрессии-то никакой не было, правда? Бесс не попадала в эти пятнадцать процентов.
Вэл прошла в кабинет в задней части своего дома и вытащила историю болезни Бесс Линдер, затем вернулась в гостиную и села ждать констебля Кроу. По крайней мере, он парень местный, не шерифы из округа. И она всегда может упирать на конфиденциальность. Сказать по правде, у нее не было ни малейшего понятия, чего ради Бесс Линдер вдруг решила повеситься. Встречались они всего один раз, да и то поговорили лишь полчаса. Вэл поставила диагноз, выписала рецепт и получила чек за полный час. Бесс дважды звонила, они несколько минут беседовали, и Вэл отправляла ей счет, округлив время до следующей четверти часа.
Время – деньги. Вэл Риордан нравились симпатичные вещи.
Вестминстерским перезвоном залился колокольчик. Вэл вышла из гостиной в отделанное мрамором фойе. В кромках стеклянных панелей двери преломлялась высокая худая фигура – Теофилус Кроу. Вэл никогда раньше с ним не встречалась, но слышала о нем. У нее лечились три его бывшие подружки. Она открыла дверь.
Констебль был в джинсах, теннисных туфлях и серой рубашке с погончиками, которая, должно быть, некогда служила частью форменного мундира. Он был чисто выбрит, длинные песочные волосы аккуратно собраны сзади в конский хвост. Симпатичный парень, чем-то напоминает Икебода Крейна [5]. Вэл догадалась, что он уже успел накуриться. Все подружки Тео рассказывали о его привычках.
– Доктор Риордан, – протянул он руку. – Тео Кроу.
Они поздоровались.
– Все зовут меня просто Вэл, – сказала она. – Приятно познакомиться. Входите. – И она показала в сторону гостиной.
– И мне приятно, – ответил Тео, словно спохватившись. – Жаль, что при таких обстоятельствах. – Он остановился на краю мрамора, словно боясь ступить на белый ковер.
Вэл обогнула его и уселась на тахту.
– Прошу, – показала она на стул из хепплуитского [6]комплекта. – Садитесь.