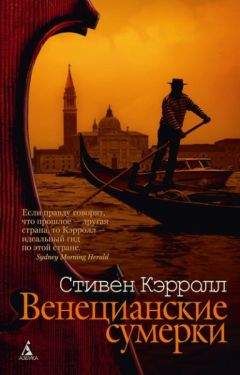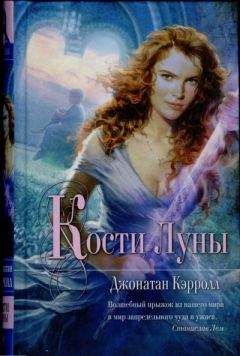Нет, в ранние годы центром вселенной для Паоло Фортуни была та часть дома, где обитал его дед. Эдуардо Фортуни стоически терпел свою эмфизему и всю вторую половину дня раскладывал возле окна пасьянсы. Его внук, навострившийся обводить вокруг пальца домашнюю прислугу и свою бонну, тайком приносил старику запрещенные сигареты.
Никто не оказал такого влияния на ум и душу маленького Паоло, как Эдуардо Фортуни. Сам он отошел от дел, но мир искусства, который он принес с собой, картины на стенах, истории из своей и чужих жизней, чудо, стоявшее за всем этим, вошли в плоть и кровь юного Фортуни и никогда не покидали его.
К тринадцати он выбрал свой путь, или, как он позднее предпочитал выражаться, его путь был выбран: жизнь его отныне будет жизнью художника. Однако инструментом его призвания стали не кисть с мастихином, а виолончель, и за ней он сидел часами.
Когда старик умер, завещав Паоло фламандский эскиз, изображавший музыкантов, мальчик рыдал, потому что остался без ближайшего друга. И если в этом возрасте он чувствовал за собой какую-то обязанность, то это была обязанность посвятить себя искусству, служить ему так, как служил Фортуни-старший.
Незадолго до кончины старика Фортуни исполнял для деда в комнате, где тот проводил почти все свои дни, часть концерта Элгара для виолончели. Эдуардо было семьдесят семь, Паоло — семнадцать. Это было первое сольное выступление молодого музыканта и последний концерт в жизни старика.
В комнате, насквозь пропахшей смертью, дряблой кожей и несвежим дыханием в смеси с ароматом высушенных розовых лепестков, зажгли свечи. Это была идея Паоло. Семь свечей (по одной за десятилетие), каждая в серебряном подсвечнике, были расставлены по всей комнате: на прикроватном столике, на двух небольших столах и мраморном полу, откуда они отбрасывали мерцающие кольца света.
Семь фигур вполоборота, кружком сидели вокруг кровати, Паоло — в центре, виолончель у ног. Его отец и двое бывших деловых партнеров Эдуардо явились в костюмах, его мать и какая-то дальняя родственница пришли в вечерних платьях, словно в музыкальный салон. Даже Эдуардо Фортуни, сидевший в постели, надел крахмальную белую сорочку и повязал бабочку. В одной руке он держал большой, пузырчатого стекла стакан с бренди, в другой — сигару. Разглядывая превосходную гавану, он со смехом говорил собравшимся:
— Не надо бы мне курить, а? Сигары для меня яд.
Фортуни играл одиннадцать минут и пятьдесят восемь секунд. (Его отцу нравилось, пока сын играл, вести точный хронометраж.) Во время исполнения все в комнате застыло — так стоит недвижно перед глазами светящееся пятно, после того как источник света погас. Кто-то прикрыл глаза, кто-то смотрел перед собой в пол, кто-то блуждал взором по потолку, впитывая в себя музыку, комнату, все праздничное окружение. Фортуни-старший время от времени попыхивал сигарой и потягивал бренди; казалось, музыка вливается в его вены, как алкоголь.
Когда отзвуки последних нот угасли, комната погрузилась в молчание, нарушаемое только хриплым дыханием старика. Силуэтом вырисовываясь на фоне окна, отец Фортуни утер глаза, жена взяла его за руку. Из соседней комнаты доносились вздохи, перемежаемые тишиной, и Паоло, отдав все силы игре, склонился к виолончели. Первым прервал молчание Эдуардо Фортуни, сделав большой глоток бренди и указав на внука:
— Ну что ж, чертенок, похоже, добился своего, научился играть. А ежели не так, — добавил он, подмигивая своим компаньонам, — значит я ничего не смыслю в искусстве.
Зажав в зубах сигару, он зааплодировал внуку, и вся комната наполнилась тихими, почтительными аплодисментами; сам же артист, Фортуни-внук, сидел склонив голову и касаясь лбом колков на грифе.
В комнату вошла бонна, и гости один за другим потянулись к выходу, на прощание обнимая принаряженного Эдуардо Фортуни и чувствуя, что это в последний раз. Партнеры, с которыми он всю жизнь сотрудничал, выходя, поклонились ему; отец Паоло снова утер глаза, мать поднесла к носу белый кружевной платок. Паоло, притихший, выжатый как лимон, отдав последнее, музыкальное приношение, приложился губами ко лбу своего обожаемого деда. Кучка гостей ушла, препоручив старика его сиделке, которая, даже не дождавшись, пока они закроют дверь, уже вынимала сигару у него изо рта и стакан из рук.
Назавтра, еще до рассвета, сердце старика не выдержало, стенки его исчерпали свой срок, остаток жизни вырвался из его губ, как пар из пробитого паропровода, и перешел в затихающее шипенье.
Фортуни ясно помнил, как его позвали в комнату деда вскоре после половины пятого утра, помнил, как врач и сиделка впавшего в кому старика ждали у кровати, когда Фортуни-старший перейдет из этой жизни в семейную историю. Смерть, отметил врач, посетила комнату в шесть пятьдесят четыре. И когда в ту среду шторы раздвинули, безразличный утренний свет упал на старую пустую кровать.
И еще много лет спустя, когда Фортуни проходил мимо табачной лавки возле Академического моста, где он всегда покупал старику сигареты, а иногда и цигарки местного производства, известные под названием «тосканелли», он мог видеть, обонять и ощущать здесь прошлое, хранившееся в одном из особых потайных уголков памяти. Однажды, проходя мимо и заметив, что табачной лавки не стало, Фортуни, к тому времени прославленный молодой музыкант, едва не разрыдался.
О гибели родителей Фортуни узнал от друга семьи в день, когда было совершено преступление. Он заперся в своей комнате, но не мог выжать из себя ни слезинки. Поначалу он решил, что просто слишком ошеломлен, но с течением времени понял, что та составляющая его личности, которая могла бы пролить слезу, попросту в нем отсутствовала. В течение двадцати двух лет его родители оставались где-то вдали, и под конец, хоть это может прозвучать чудовищно, не о чем было и плакать. На людях он держался бесстрастно, с благодарностью принимал поддержку друзей семьи и продолжал жить дальше. Его бесстрастие по ошибке принимали за стоицизм.
Но где-то, о чем едва догадывался сам Фортуни, вопреки всему, в одном из уголков сердца, жила смутная сладкая боль. Смерть старика была естественной — круговорот жизни, свершающий предначертанный цикл, — но со смертью родителей в ярких вспышках пятнадцати выстрелов дождливым миланским утром Фортуни неожиданно приобрел трагическое прошлое, которое окружающие позднее читали в его взгляде и слышали в его музыке, — прошлое, придававшее его искусству глубину подлинного переживания, которого не хватает столь многим. Когда к нему приходили подобные мысли, Фортуни буквально видел, как дед подмигивает ему и одобрительно качает головой. Бери это, мальчик мой, пользуйся этим. Вовсе не Старик Время решает, что такое искусство, а что нет. Это решают люди. А если все не так, то я решительно ничего не смыслю в искусстве.
Хотя многие и ждали, что трагедия вызовет какие-то катаклизмы в его жизни, решительных перемен не происходило. Фортуни упрочивал свою музыкальную карьеру с той решимостью, какую проявлял и до страшных событий, и со временем достиг признания и европейской славы, к которой всегда стремился, а иногда стал получать и приглашение выступить в Соединенных Штатах.
Слава принесла с собой не только радости, но и скуку — и не было ничего более скучного, чем многочисленные интервью, которые его вынуждали давать направо и налево. Одно особенно врезалось ему в память. Некий молодой журналист, совершенно очевидно считавший, что собеседник — поп-гитарист или подобного рода исполнитель, с полной серьезностью спросил Фортуни, какого цвета его музыка. Какого цвета? Фортуни, никогда (или никогда прежде) не мысливший свою музыку в каком-либо цвете, взглянул на молодого дурня, обвел взглядом сине-зеленые обои фойе гостиницы, где они сидели, и пожал плечами. Ну, тогда сине-зеленая, ответил он с презрительным равнодушием. Музыка, мысленно возразил он молодому журналисту, лишена цвета, вкуса, запаха и так далее и тому подобное. Музыка есть звук. И хотя ему нравилось, что в нем видят творческую личность, он всегда гордился тем, что, фигурально выражаясь, шел по стопам деда, то есть твердо ступал по земле.
Он вел жизнь труженика, в которую время от времени вторгались влюбленности, — наиболее прочной оказалась его связь с женой парижского хирурга. Однако же он не женился и не стал отцом. Женитьба и отцовство связывались в его мыслях с будущим, с чем-то, что пока не для него, всегда откладывались до окончания очередного турне. Вечно оставались не реализованной до поры возможностью. И вот теперь, когда Фортуни за два-три часа до рассвета вернулся в кровать, ему представилась вся череда его предков, начиная с генуэзских войн и последних благостных дней Светлейшей республики.
Утром Фортуни поднялся рано, все еще помня о своем кошмарном сне, и решил, чтобы прогнать меланхолию, отправиться вначале за покупкой, которую давно откладывал, а потом в консерваторию, на концерт какого-то ученика. Перво-наперво ему предстояло зайти в его любимый магазин — канцелярский; письма Фортуни всегда писал очень тщательно, не упуская из виду ни малейшей мелочи.