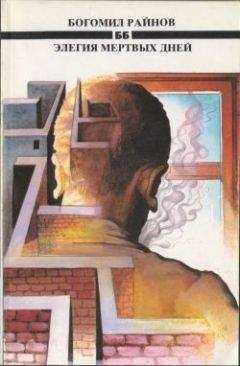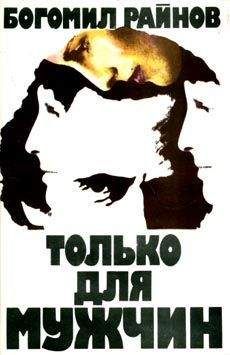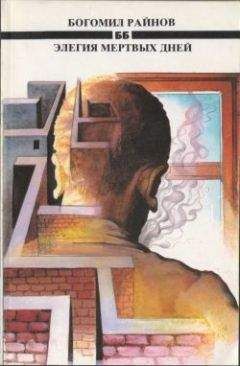Это вынудило Гошу Свинтуса разыграть самый веский козырь. Спустя две недели во всех центральных столичных киосках появилось новое издание: „Корабль искусств. Единственный выпуск".
В газете содержались статьи людей, которые вполне могли сойти за знаменитых, а также информационные заметки об эпохальном начинании, в них упоминалось имя богатого наследника, причем набранное жирным шрифтом. Наследник пережил психический шок, превзошедший даже шок от достопамятных выборов в руководители. О, как велико могущество печатного слова! Гипноз газетной полосы. Мечта приобретала реальные и зримые очертания. „Корабль искусств" торжественно вплывал в жизнь. А имя его скромного капитана, оттиснутое жирным шрифтом, красовалось на каждой странице. Несчастный примчался в корчму и в приступе горького раскаяния бросился в объятия студента.
— Ну будет, будет, — пробормотал Гошо Свинтус, не любивший телячих нежностей. — Забудем о случившемся. Нас ждет работа. Большому кораблю предстоит большое плавание!
И в качестве очередного шага, предшествующего первому рейсу, он вручил наследнику счет за только что набранный в типографии номер.
Дальнейшие события разворачивались с ошеломительной быстротой. О подозрительности и скупердяйстве не могло быть и речи. О начинании было черным по белому заявлено всей мировой общественности, и газета триумфально развевалась на газетных тумбах, пока ее не сорвали. А наследник все раскошеливался и раскошеливался, ибо разного рода дела не терпели отлагательства и большому кораблю предстояло большое плавание.
Я познакомился с Гошей Свинтусом, когда его карьера только начинала закатываться. „Корабль искусств" отчалил навсегда и канул в Лету. Очередной меценат был не богатым наследником, а всего лишь мелким торговцем с барахолки. Но капризы судьбы для студента не были в диковинку, и наступление стагнации его нимало не смущало. По правде говоря, я не знаю, могло ли что-нибудь вывести его из себя. Памятуя, что алкоголь весьма пагубно сказывается на нервах, я должен был бы признать Гошу трезвенником или человеком без нервов.
Бесстрастный и невозмутимый, как азиатский божок, он восседал в темном углу кабака, и его полное круглое лицо выделялось во мраке алкогольной ночи бледной ущербной луной. Нет, это была не ночь, а утро, хотя вряд ли можно было понять, ночь или утро царит на дне этого стиснутого домами двора, на дне этого кабака, скупо освещенного несколькими мигающими, загаженными мухами лампочками.
По одну сторону от студента сидел старьевщик в помятой тужурке, и лунообразная физиономия Гоши резко контрастировала с его побагровевшим от алкоголя лицом, увенчанным копной грязных ржавых волос. По другую сторону примостился какой-то безликий тип, из тех, что участвуют в компании числа ради. Четвертым собеседником был я.
В сущности, здесь редко вели беседу. Здесь потребляли спиртное. Потребляли медленно и молчаливо. Разговоры только изнуряли, ибо все давно было сказано, а какой смысл в том, чтобы насиловать свой мозг и брызгать слюной, когда момент не требует этого, то есть не требуется обвести вокруг пальца очередного простака. Только я, бывая здесь, молол языком, и, видимо, именно это помогло мне снискать расположение Гоши Свинтуса. Наверное ему казалось, что я салажонок, — а кто не любит салажат, — я был для него бесплатной грампластинкой, фонтаном эффектных фраз, частью которых он подзаряжал свой истощенный аккумулятор так же, как я подзаряжал свой с помощью книг.
Гошо слушал мои тирады со снисходительным видом. В одной руке он держал стакан, в другой — дымила вечная сигарета, покрывая никотиновой желтизной его толстые короткие пальцы. Он слушал, а иногда, лениво покачивая головой, изрекал один из своих дежурных афоризмов:
— Жизнь, браток, это сумасшедший дом, а ты, едва очутившись в нем, торопишься блеснуть, стать центром внимания… Ну и что с того, что ты блеснешь? Сразу же кучей навалятся на тебя и раздавят. Верх искусства, браток, пройти через этот бедлам на цыпочках и выбраться незамеченным. Выбраться и исчезнуть. Не более того.
Набор его дежурных афоризмов был довольно ограниченным, но этот, последний, мне кажется, был не просто дежурным афоризмом. Гошо и его дружки именно так и поступали: они старались незаметно проскользнуть мимо жизни или, точнее сказать, старались чтобы жизнь незаметно проскользнула мимо них, вошла и вышла, не заметив их. Они притаились в самом заброшенном месте, легли на дно в этом мрачном погребке, в самом темном углу этой грязной корчмы, пытаясь держаться как можно дальше от всего, что происходило снаружи, вдали от событий, перемен, забот, от солнца и дождя, от дня и ночи, как можно дальше, здесь, на дне, в самом темном углу.
Знакомый мне инстинкт. Иногда, просыпаясь после очередной попойки, когда жизнь казалась черной и сама мысль начинать ее снова переполняла меня отвращением и страхом, я тоже как можно глубже зарывался в перину, натягивал на голову одеяло, пытался ни о чем не думать и жаждал исчезнуть, раствориться, сгинуть.
Инстинкт человека-кокона. Ностальгия по тому изначальному времени в материнской утробе, где ты, кротко свернувшись калачиком, лежал, защищенный от ледяного дуновения жизни. Сначала я думал, что это — следствие органической неприспособленности отдельных людей к неприветливому миру. Потом понял, что это — депрессивное состояние, вызванное алкоголем, но чем бы оно ни было — депрессивным состоянием или же чертой характера, в любом случае это было началом конца, отказом от борьбы, уходом с ринга, высшей точкой крутой диагонали, заканчивающейся в бездне.
Кое-кто срывался в бездну не без сопротивления. Один из бывших дружков Гоши порвал с компанией, решив начать новую жизнь. В отличие от Гоши ему хватило упрямства или же везения окончить университет и стать школьным учителем. Его жизнь разделилась пополам: пьяные загулы сменялись отчаянными порывами к новой жизни. Он переезжал из города в город и начинал новую жизнь. Переезжал с одной квартиры на другую и начинал новую жизнь. Рвал с компанией, покупал новый костюм, проглатывал какую-нибудь книгу и начинал новую жизнь. Новая жизнь, разумеется, прежде всего означала полный отказ от алкоголя. Это был поистине суровый режим, длившийся от грех до пяти дней. Но глас житейской мудрости вовремя подавал знак, внушая учителю, что быть порядочным человеком вовсе не значит истязать себя или чураться людей подобно дикарю. После этого начинался второй период — переходный. Затем несколько дней кряду учитель появлялся в том или ином заведении и, демонстрируя силу воли, доказывал окружающим, что не боится стать рабом презренной страсти, пропускал рюмочку — другую. Третий период вызревал незаметно и нередко уже в самом начале выливался в скандал.
Во время очередного добропорядочного и невинного угощенья учитель в силу присущей человеку рассеянности переставал считать рюмки и ударялся в неизбежный запой. Пил весь день. И пытаясь вырваться из лап этого бодлеровского чудовища — скуки, бродил по кабакам на виду у всего города. Ночь проходила в том же духе, с той единственной разницей, что вместо кабаков менялись квартиры. Но на следующее утро, как бы он ни был пьян, до него начинал доноситься, хотя и весьма смутно, голос совести, и он вспоминал о своем учительском призвании. И вот сей ученый муж объявлялся в гимназии, голова его гордо вскинута на сторону, во всех членах угадывалась неестественная одеревенелость, но он пытался не обнаруживать своего состояния перед презренными мещанами. Решительно входил в класс — правда, иногда оказывалось, что это не совсем тот класс, куда ему надлежало войти, — и начинал говорить, хотя и не всегда в непосредственной связи с учебной программой. Он упражнял свое красноречие, распространяясь на вольные темы и пренебрегая строгими правилами академического стиля, по-отечески советовал мальчикам не верить тому, чему их учат разные тупицы.
Обычно еще до звонка на второй урок директор отправлял его домой проспаться. А на следующий день старался внушить, что в его же интересах поспешить с заявлением об уходе. Учитель был слишком горд, чтобы противиться подобному нажиму. Он подписывал все, что от него требовалось, без обиняков выкладывал директору свое мнение как о нем, так и об остальных подвизающихся в гимназии болванах, после чего снова погружался в столь поспешно прерванный накануне запой. Он погружался в него безнадежно и будто навсегда, но через недельку-другую снова, как пробка, всплывал на поверхности, чтобы в очередной раз начать новую жизнь.
Однажды он получил назначение в Софию, в ту самую гимназию-училище, что я так ненавидел и из которой я вырвался на волю два года назад. Учитель снял удобную квартиру, приоделся, нельзя сказать, чтоб элегантно, но во всяком случае прилично, и во время своих перемещений по городу старательно обходил стороной злачные места, где собирались старые друзья и разные пропащие типы.