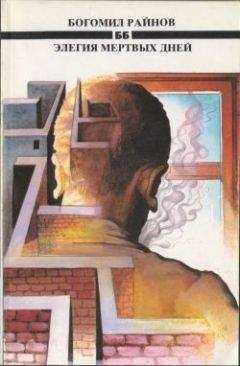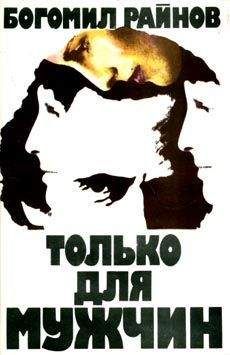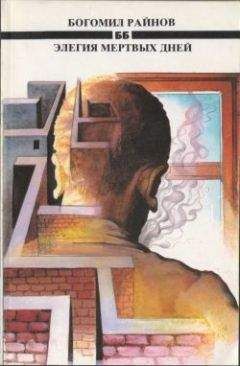Однажды он получил назначение в Софию, в ту самую гимназию-училище, что я так ненавидел и из которой я вырвался на волю два года назад. Учитель снял удобную квартиру, приоделся, нельзя сказать, чтоб элегантно, но во всяком случае прилично, и во время своих перемещений по городу старательно обходил стороной злачные места, где собирались старые друзья и разные пропащие типы.
Через месяц или через два я встретил его утром на улице Марии-Луизы. Он был явно в приподнятом настроении и выступал петухом.
— Браток, — воскликнул он, по-свойски обнимая меня. — Пошли, покажу тебе райский уголок, который я обнаружил! Воистину райский уголок… и какое вино!.. Съезжаю с квартиры, плюю на все, окончательно и навсегда перебираюсь туда!
Райский уголок оказался грязной корчмой на Пиротской улице, за Бабьим рынком. В кабаке, набитом какими-то подозрительными типами, воняло прокисшим вином и подгоревшей стряпней.
— Эй, хозяин, — рявкнул учитель, когда мы сели за один из свободных столиков. — Дай-ка бутылочку с эликсиром!
Соседи презрительно покосились в нашу сторону, а затем снова углубились в свои разговоры. Трактирщик, жирная физиономия которого в лучшем случае выражала добродушную издевку, принес бутылку. Ее содержимое оказалось именно того посредственного качества, коим отличается и сам сервис в подобных грязных притонах.
— Ну? Что скажешь? Каков эликсир, а? — вскричал мой знакомый, отведав вина. — Я снял комнату на верхнем этаже только ради этого эликсира. Буду жить здесь и только здесь, вкушая этот эликсир!..
И не успели мы выпить даже литра, как он потащил меня на лестницу показать новое жилье. Я неохотно поднялся, чтобы увидеть именно то, что и предполагал увидеть: нищенскую комнатушку размерами два на три метра, на обшарпанных стенах которой влага вывела свои грязные орнаменты, продавленную железную кровать, кое-как прикрытую лоскутным покрывалом; деревянный стол, на котором красовались две полуопорожненные бутылки вина.
— Мне доставляют эликсир прямо сюда, — пояснил мой знакомый. — Лежишь себе, потягиваешь винцо и никаких тебе забот…
— Ты что, совсем спятил, — не стерпел я. — Променять чудесную квартиру на этот гнусный чулан!
— Ты не понимаешь, — возразил учитель, нетвердым шагом провожая меня к выходу, — что значит вернуться к простой жизни… к главному и насущному: хлебу и вину… так же, как в евангелии… Вернуться к этим сердечным людям!..
Уже стоя на лестнице, он так резко подался в сторону подвального помещения, что чуть было не скатился к этим сердечным людям, которые снова измерили нас презрительными взглядами и вернулись к своим разговорам.
— А как же гимназия? — поинтересовался я после того, как помог ему дотащиться до столика.
— Какая еще гимназия? — воскликнул преисполненный негодования учитель. — С этим покончено! Все побоку! Я ухожу из этого мира!..
И не совладав с напором обуревавших его чувств, он вскочил и заорал, взывая к окружающим:
— Друзья!.. Братья!.. Послушайтеся меня: назад — к примитивности!..
Потому ли, что окружающие не понимали значения слов „примитивность", или потому, что вполне отчетливо сознавали, что дальше катиться уже некуда, но забулдыги не сочли необходимым обратить внимание на этот патетический призыв. Лишь трактирщик по-отечески пожурил моего знакомца:
— Эй, учитель!.. Потише там…
Назад — к примитивности… Ухожу из этого мира… Все тот же инстинкт человека-кокона: изолироваться от окружающего, замкнуться в себе, погрузиться как можно глубже, пусть даже ценой исчезновения навек. Естественно, выйдя из запоя, мой знакомый снова, как пробка, всплыл на поверхность, только сменил место работы. Но было много и таких, кому всплыть так и не удалось.
Корчма на Пиротской и кабак в глубине двора были берлогами на дне бездны. Но они не были исключением. Такая же берлога близ крытого рынка носила название „Морг". Ее окрестили так потому, что там царила невыносимая духота, и еще потому, что ее завсегдатаи вряд ли могли рассчитывать на долголетие. Человека, попавшего сюда впервые, по вполне объяснимым причинам брала оторопь и бил нервный озноб. Помещение без вентиляции было полно густого табачного дыма, стелющегося сизыми облаками наподобие ядовитого газа. Лучом прожектора свет бил через крошечное оконце в потолке, с трудом пронизывая толщу слоистого табачного дыма. Просторный зал, наполненный гулом голосов как вокзальный зал ожидания или общественная баня, тонул в полумраке. В зимнюю пору здесь стоял лютый холод. Помещение не отапливалось, а его пол был выложен каменными плитами, и люди сидели за столиками в пальто и шапках. Но спертый воздух и промозглый полумрак особо не сказывались на посещаемость заведения. В нем всегда хватало народу, а в обеденное время здесь было и вовсе не протолкнуться.
Компанией, из-за которой я, бывало, хаживал сюда, верховодил Талей, здоровенный бугай с невероятно вместительной утробой, по крайней мере в отношении спиртного. По неписаному закону у каждой кабацкой компании был свой неофициальный, но общепризнанный вожак. Компании были разные, вожаки так же, но один принцип оставался неизменным: вожаком становился человек, пользовавшийся авторитетом, а под этим, между прочим, подразумевалось и то, что он пьянел медленнее, чем остальные. В корчме в глубине двора верховодил Гошо Свинтус, в „Трявне" — Замбо, в „Шевке" — Ламар, а в „Морге" — Талей. Если бы в один прекрасный день вожаки вздумали потягаться силами, то, я уверен, Талей всех заткнул бы за пояс.
За столом Талей не любил вдаваться в досужие разговоры, но если даже и вдавался, то они отнюдь не сводились к сентенциям о смысле жизни. Это были простые и деловые люди, без потуг на артистическую изысканность. Один из них, завидев меня, всегда восклицал:
— Мы не умеем сочинять стихи. Самое большое, на что мы способны, это нализаться…
Реплика встречалась одобрительными возгласами остальных присутствующих, убежденных, что пьянство есть высшая форма творческой деятельности, причем в любом случае гораздо более полезная, чем стихоплетство.
Талей, как и большинство здоровяков атлетического сложения, был сущим добряком и всегда встречал меня с распростертыми объятиями, хотя и несколько опасался, что я, будучи подшофе, могу погрузиться в какую-нибудь серьезную тему и всем наскучить. Здесь не мудрствовали, здесь пили основательно и без лишней суеты, так что вздумай я угнаться за принятыми здесь темпами, меня через пару часов вполне могли вынести на носилках.
Берлоги на дне бездны были мрачными, иногда даже ужасающими, но не знаю почему, я заходил сюда чаще, чем в артистические заведения типа „Луки", „Пальмы", „Бродяги" и прочих. Может, потому, что в артистических заведениях часть посетителей собиралась не для того, чтобы выпить, а для того, чтобы пофасонить. То была другая разновидность кабацкой фауны — люди, которых хлебом не корми, но дай порисоваться. Такой посетитель за одной рюмкой ракии или вина обменяется со знакомыми или с шапочно знакомыми тремя дюжинами приветствий и улыбок, намелет вздору с три короба, все содержание и единственный смысл коего сводится к тому, чтобы обратили внимание на его собственную персону, он кокетничает тем, как небрежно забрасывает ногу на ногу, держит мундштук и поднимает бокал, как поблескивает на солнце его перстень. Завсегдатаи берлог, может, и не отличались высокой духовной культурой, но по крайней мере не скрывали этого.
Надо сказать, что в Софии того времени было полным-полно всяких кабаков, у города даже была собственная кабацкая география, начиная с заведений для богатой клиентуры такого рода, как „Элита", продолжая квартальными, не менее известными пивнушками типа „Длинной" или „Широкой" и кончая берлогами на дне, теми, о которых я уже упоминал, и другими в Подуене, по Гробарской или у вокзала, носящими разные названия и посещаемыми лишь грузчиками да окрестными извозчиками. В этих названиях сквозила довольно странная находчивость содержателей заведений, и, как мне помнится, в Тырново я встретился со Светославом Минковым в пивнушке, увенчанной, бог знает почему, вывеской „Среднее образование".
Мой личный кабацкий опыт берет начало как раз в подобной мерзкой дыре самого низкого пошиба, находившейся на улице Раковского, над входом не было вывески, так что мы называли ее „Новая Болгария", ибо надо было же хоть как-то ее называть. Мне кажется, мы выбрали это заведение потому, что оно было в двух шагах от квартиры Саши Вутова и к тому же шкалик ракии здесь стоил на лев дешевле, чем в центральных кабаках.
— Не ракия, а пойло, — сказал бы, наверное, Славчо Минков, весьма привередливый в отношении качества напитков.
Мы не привередничали, но я так и не смог полюбить спиртное из-за его вкусовых качеств и, потребляя его, едва сдерживал брезгливую гримасу; между нами говоря, я с превеликим удовольствием предпочел бы стакан холодного лимонада, но, к несчастью, от лимонада не опьянеешь. Может быть, именно то обстоятельство, что вино так и не превратилось для меня в амброзию, а осталось наркотиком, и помогло мне отринуть его, когда мне еще не стукнуло и тридцати.