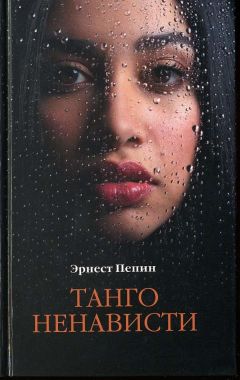Давайте, дети, все вместе, хором! Громче! Еще громче! У-а-а-а! Повторим снова! Еще разок!
И вот так, как самый лучший подарок на День матери! И вот так, на Крещение, хей-о, хей-о! И вот так, на Святую Богородицу, туда-сюда, туда-сюда! И вот так, «Я хочу познакомить тебя со своей женой», какая сладенькая! И вот так, «Моя дочь не шляется где попало»!
Мой сын может резать, рубить, петушиться, бражничать, жрать, брать, рвать, драть, срать, харкать, хватать, хапать, мять, жать, трахать, показывать задницу — все безнаказанно. И не важно, кто его окружает, — свиньи, ослицы или же матроны в кружевах.
О нет, мамочка! Я никогда не торопилась стать женщиной, женщиной в твоем понимании. Ее путь — путь горя. Раньше времени я попросила: разжени меня, мамочка! Продай перины, раздай приданое и разжени меня!
И все-таки я стала женщиной… Я струилась для тебя всеми водами женщины, говорила словами женщины. Я открылась. Я всколыхнулась. Я кричала: «Господи Боже, что со мной произошло?», ничего не понимая в этом яростном порыве. Что произошло со мной и что заставило мое тело превратиться в дрожжи, в опару, что подняло его и оторвало от земли? Что со мной произошло?
Однажды я сказала: «Я беременна». До сих пор слышу, как я это сказала, словно это был кто-то другой. Спокойно, почти безразлично. Я не могла толком понять, что я чувствую, все случилось слишком быстро. Я была беременна, и что делать, что говорить, я не знала. Это так глупо — я беременна… Ты взглянул на меня без тени удивления, без тени сомнения и затем скомандовал, как генерал, принявший решение о наступлении на вражеские редуты: «Не страшно! Я знаю местечко. Ты сделаешь аборт». Для тебя это было всего лишь неудобством, неожиданным сюрпризом судьбы, пустяком, от которого следовало избавиться. Соринка в глазу нашей жизни. Для меня это было мое тело. Но я не стала протестовать. Я промолчала. Как заставить плакать скалу?
Мы отправились в это местечко. Небольшая частная клиника, кокетливо устроившаяся в зеленеющем пригороде. Столь прелестная меж деревьев и цветов. Здесь можно было узреть Господа без причастия. Мы взяли такси, как люди, отправляющиеся в путешествие. Приемное отделение казалось безупречно чистым, даже веселеньким, там сидели в ожидании своей очереди женщины. Вышла врач. Ты поднялся и начал очень уверенным и несколько развязным тоном (возможно, ты прятал страх?): «Мадам, я привез к вам эту юную девушку на аборт». Немое изумление сидящих дам. Ужасный гнев врача. «Где, вы полагаете, вы находитесь? Вы сошли с ума! Я не занимаюсь подобными вещами! Убирайтесь вон! Вон!» Но она делала это. Она делала аборты другим! Нам оставалось лишь выметаться вместе с нашими проблемами. Я видела твой гнев. Я слышала стоны твоей уязвленной гордости. Ты взял меня за руку. Ты потащил меня к выходу. На улице стояла прекрасная погода, кроны деревьев купались в солнечных лучах. Твои слова оглушили меня: «Я никогда не позволю этим людям оскорблять нас подобным образом! Мы сейчас же поженимся…» И мы уехали, вместе с твоим бешеным гневом чернокожего и моим животом будущей мамаши. Я была счастлива. Ничего не сказав, я спасла свое тело и нашего ребенка.
Я разглядываю свадебную фотографию. Чтобы взять ее в руки, я натягиваю перчатки ненависти. Это я. Это точно я! Одетая в серо-жемчужный костюм, который я сшила собственными руками так быстро, как только могла. Широкая юбка скрывает большой живот. Ты даже не представляешь, как трудно скроить наряд для беременной. Особенно свадебный наряд! Ты никогда не желал знать, с каким трудом даются некоторые вещи. Ты всегда срывал свое счастье с дерева жизни с таким видом, как будто оно принадлежало тебе всегда. Счастье быть первым на курсе и слушать, как твои преподаватели превозносят тебя до небес. Счастье хорошо себя чувствовать. Счастье быть исключительным студентом, проживающим в роскошной квартире, обедающим в ресторанах, управляющим классной тачкой. Счастье нравиться. Счастье притягивать счастье. Ты радовался всему этому, как радуется ребенок новогодней елке. Ты получился таким же радостным и на этой фотографии. Ты никогда не мог понять, что жизнь — это не сплошное веселье. А, это твое веселье невинности, которая знает о своей вине!
Выражение моего лица на фото можно назвать сдержанным. Я представляла ту жизнь, которую ты мне предложишь. Мой слегка наморщенный лоб выдает всю настороженность, испытанную мной от твоего легкомысленного «да», выскользнувшего в мэрии.
Я забыла мэрию. Я забыла мэра. Но я не могу забыть, что мы поспорили сразу же после церемонии. Как это? Я забыла… Серия фотографий на поляне студенческого кампуса с двумя нашими свидетелями и их возлюбленными. Праздник был скромным. Даже сегодня мне по-прежнему кажется, что тогда мы были счастливы: как мы танцевали — обезумевшие детские волчки, как мы пили и как обнимались. У нас не было медового месяца. Я почти сразу же уехала в другой город, где должна была работать. Я оставила тебя в постели, вернее, я оставила в постели бутылку и тебя. Ты догнал меня еще в дороге. Я приняла тебя. Мое сердце пело, когда я видела тебя рядом с собой! Вот тогда я наконец поняла, что мы с тобой муж и жена. Навсегда… На всю жизнь… До смертного одра.
Усевшись на массивную резную кровать, Ника внимательно разглядывала шкаф. Вернее, верхнюю его часть. Там, где раньше лежал чемодан, зияла огромная дыра. Она напоминала дыру в гробнице Христа после его воскрешения. Эта дыра, затягивающая ее в глубины скорби, пришла из немыслимой дали, дали, в которой рождаются галактики.
Ника прикоснулась к груди, чтобы убедиться, что сердце еще бьется. Но оно блуждало где-то, охваченное страданием, сравнимым лишь со страданием распятого. Она провалилась в хаос, в безвременье.
Перед Никой промелькнула череда видений. Они всплывали из памяти, толкались, карабкались по натянутым веревкам ее нервов, разбивали ударами тарана двери, за которыми хранились тайны.
Юная наложница короля Беханзина[10], схваченная после переворота и брошенная заживо в ад, бродит среди зомби. Юная дева, насилуемая, как кусок черной плоти без чувств, без крика. Она не отдает свою душу. Она предоставляет лишь тело. А это уже много.
Юная рабыня, отданная на разграбление целой плантации. Единственный, кто здесь живет, — это хозяин. Другие либо влачат жалкое существование, либо бегут. В зависимости от веления их сердец. Единственное, что здесь постоянно и непреложно: хозяин попирает, подбирает, оседлывает, ездит верхом на любой женщине, и это нравится его члену. Дикие ночи, как дикие девственные джунгли. Яростные атаки на излете полдня, атаки без свидетелей. Жадное стремление вкусить мед эбеновых лесов. Непреодолимо влечет холмик лобка, прячущийся в шелковистом пушке. Возможно, все это есть и у его жены, но… Она изнемогает от запаха хижин черных рабов. Озлобленная: «Ну что ты находишь в этих мартышках, чего нет во мне? Дорогой, это уже зоофилия!» А сама с любопытством смотрит украдкой, искоса-искоса, слишком долго для истинной католички… Особенно во время торгов, на невольничьих рынках. А хозяин не знает, ни почему, ни ради кого он погружается в розовую теплоту черного. Другие рабыни опускают глаза долу или бегут. В зависимости от веления их страха. Но она с этого времени-безвременья прикрыла глаза веками ненависти. Это ее способ бегства из рабства, он принадлежит только ей. Удар бича не приводит ни к чему, ahak[11]! Стакан рома, подогревающий безумство побежденных мужчин, разжигает твою ненависть. Их слова, все их слова — одно лишь вранье, вырядившееся во фрак.
У нее хватило сил убивать детей, рожденных в рабстве. У нее хватило сил есть землю, чтобы исторгнуть из себя детей рабства. У нее хватило сил отказывать самцам, молодым жеребцам, старым козлам, быкам-производителям, покрывающим ее, как животные кроют самку, надеясь, что когда-нибудь в них проснется мужчина. Но у нее не хватило сил убить злость, поселившуюся в душе. Они чувствовали себя такими великими на животе женщины, но они плевать хотели на детей, что из него родятся… Один не мог спасти другого. Ни хозяин, ни рабыня. Все люди — лишь зерна.
Индианка с Юга, вся в драгоценностях, от лодыжек до запястий, до кончиков пальцев, до ноздрей… Драгоценности создают на теле прихотливый узор, напоминающий золотую сеть. Сеть цвета солнца, которую сплел удивительный паук. Но у нее нет больше тела после этого проклятого переезда. Мужчины пожирают ее взглядами, грязными взглядами, что пачкают ее тело и оскорбляют мужа. Они презирают ее. Они представляют каждый волосок ее тела; они представляют запах, идущий из самой середины ее yoni[12], они представляют, что она киска со щелочкой, щелочка-киска, киска-лизалка… Она молча проглатывает весь поток этой грязи. Некоторые из ее сестер смачивают губы ромом. Пей, не пей, но ты останешься вещью… И вот так веками отвращение вплетается в темноту ее иссиня-черных кос. Даже если потом островитяне окажут ей уважение… Слишком поздно перегораживать дорогу… Ублюдок из Малабара, этим все сказано! А почему не ублюдок из Гвинеи? Белые бы опрокинули ее в заросли тростника. Подчинись, говорят они! Подчинись… Вот почему она бьет разделочным ножом управляющего плантациями, бьет до изнеможения, пока не обессилеет ее худенькая ручка. Ненависть… Ненависть… Но, по крайней мере, со своим мужчиной она сберегла что-то из прошлого.