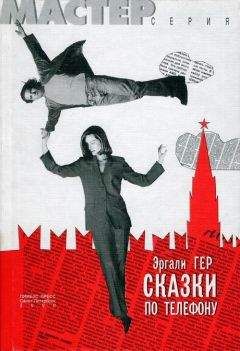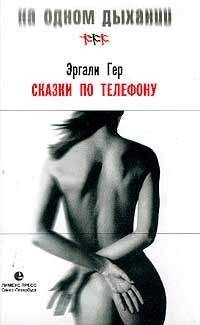— Прекрати немедленно! — прохрипел он, затряс головой и заплакал, сидя на полу перед маминым креслом с древесной трухой в горсти, и труха намокла, пока он вытирал кулаком слезы.
За окнами как-то враз померкло. Он встал и по-новой пошел обходить комнаты, коридор, кухню, зажигая повсюду свет, по-новой оглядывая кухню, коридор, комнаты, весь этот домашний мирок больной, одинокой женщины, впитавший в себя ее запахи, надежды, печали, живущий ею, хранящий частицу ее души. Бродил, как в забытьи, вслушиваясь в отзвуки ее жалоб, вздохов, разговоров с собой, бессознательно трогал руками мебель, вазы, фаянсовые статуэтки, салфетки, потертые корешки книг — все то, к чему прикасалась она, что годами притиралось к своим местам и прикипало к ним намертво — не физически, но так, что за сдвинутой на сантиметр вправо или влево статуэткой обнаруживалась зияющая прореха в пространстве, в которую могло завалиться что-нибудь из позавчера или с прошлого года; бродил, заражаясь ее угрюмыми, тягостными, одинокими думами, безропотно принимая на себя страшный груз ее одиночества и разочарования, отчуждения от мира за окнами и отчаянного, по девичьи безысходного отрицания такой жизни. Потому, быть может, и говорилось с ней как с больной, как с девочкой, он даже обмолвился «маленькая моя» вместо «маменька моя» и сам удивился этой обмолвке — они стали ближе друг другу, возрастная разница в двадцать три года, всегда стоявшая между ними незыблемо, вдруг разлетелась вдребезги — они стали ближе друг другу на сутки, Николай сразу почувствовал это сближение и подумал, что отныне с каждым днем, с каждым годом они будут ближе, понятней друг другу, нежней друг с другом и откровенней. Отныне он никуда от нее не уедет, никогда не уедет, ей никогда больше не будет с ним одиноко и неуютно, так, как нынешней осенью, в его последний приезд, когда она спросила:
— Зачем ты приехал? — так прямо и спросила, черт побери. Николай вспомнил и застонал от стыда; так прямо в лоб и спросила, с порога, а он, кретин, даже обидеться не нашел в себе мужества, удивленно заулыбался и объяснил:
— Как зачем? На твой день рождения, — хотя день рождения был накануне, и приехал он без подарка, с пустыми руками… если не считать его самого, его приезд за подарок. Обычно это сходило, денег у него никогда не было и подарки для матери все чаще в последние годы откладывались на потом, к Новому году, а там и к восьмому марта, но на этот раз мать психанула, он слышал, как на другой день она жаловалась по телефону Полине:
— …и говорит, что приехал на мой день рождения… Вот именно. Нет, ну что за человек, а?
Это обращение к Полине, с которой у матери прежде не было доверительной близости, задело-таки его за живое, заставило понять, как отдалилась она за последние годы, как срослась со своим одиночеством, со всем своим отлаженным и безрадостным существованием, которое он потревожил так глупо, так мимолетно и так, в сущности, бесцельно. За три дня дома он так и не смог толком поговорить с матерью, не сумел поделиться с ней собственным, разбуженным в нем отцовским чувством — Сашка был главным его московским откровением, обнаружившим в Николае интонации матери, ее фразы, запавшие с детства, и какую-то новую, взрослую, серьезную нежность к ней. Этой осенью он вспоминал мать как никогда часто. Вспоминал молодой, задорной, вспыльчивой — и такой, какой оставил нынешним летом: еле-еле ковылявшей от остановки к дому, согбенной, с нелепой старушечьей кошелкой и жутким, застывшим, обращенным вовнутрь взором…
Вспоминая, он с горьким, щемящим чувством думал о том, как неумолимо сужается ее мир, как унизительны и безысходны ее хождения по врачам, взяточникам и бездарям, ее одиночество, сумерки некогда удачной карьеры — что из этого и какими словами можно было передать матери? А главное — чем он, любящий всепонимающий сын, мог помочь? Вот именно. Так и не поговорил, даже не стал пытаться, понадеявшись на долговременный фактор материнской любви, всегда работавший на него, а зачастую и вместо него, на эту свою незримую, необременительную, сыновнюю власть над нею.
Неожиданно в коридоре прозвенел живой телефонный звонок, он снялся с табуретки и пошел в коридор.
— Слава богу, — сказал Натальин голос. — Я так и думала, что ты там. Все в порядке?
— Угу.
— Ты один?
— Нет, — ответил он раздраженно. — Тут еще тень отца Гамлета.
— Не страшно? — полюбопытствовала Наталья и замолчала.
Николай тоже молчал.
— Ты там не убирал? Нет? Ну ладно, не задерживайся, а то Серафима Никифоровна совсем извелась. Я серьезно говорю, не сиди там долго.
— Ладно, — пообещал Николай.
А в самом деле, подумал он, возвращаясь на кухню, зачем я в тот раз приезжал, неужто действительно на день рождения? Выходило, что так, других причин не припоминалось.
5
Поздно вечером, пожелав Серафиме Никифоровне уснуть, Николай с Натальей пошли к Полине. Домишко ее стоял в третьем ряду от Волги, впритык к железнодорожной насыпи, на которую выходил огородами весь этот ряд глубоко посаженных в снег и мглу грачанских домов. Николай помнил его большим, сумрачным, со всеми запахами двадцатилетней давности — это был его первый дом, они жили в нем до шестьдесят пятого года, пока маме не дали квартиру в городе. Они переехали, а в домике поселилась Полина, жившая до этого с бабушкой.
Идти было недалеко, минут десять. В ночном небе дрожало зарево городских огней, изредка полыхали трамвайно-троллейбусные зарницы, а за Волгой, в России, в заснеженных полях и лесах правобережья еще стояла рождественская, благословенная тишь. Шли вдоль железнодорожной насыпи — так повела Наталья, а Николай не спрашивал, что это ей взбрело: вряд ли для того, чтобы провести мимо «отцова» места, — скорее, просто не хотела показываться с ним на улице; брели по крахмальной, свежепроломленной в грязно-сером насте тропе между насыпью и заборами, синей мглой за заборами, мимо гаражей и дровниц с искрящимися шапками снега. Мощные дистанционные светильники обливали полотно мертвенным белым светом; по путям, громыхая буферными сцепками, ползли составы с цистернами, в интервалах скрипел под ногами снег и отлетала за Волгу хриплая брань диспетчеров. Шли молча, и только перед домом Полины, уже в саду, Наталья вдруг обернулась и спросила:
— А что ж твоя благоверная не приехала?
— А куда ей с Санькой? — беспечно ответил он; Наталья, однако, что-то все-таки расслышала в его голосе, опять обернулась и с усмешкой присоветовала:
— Это ты бабушке сказки рассказывай. Полтора года — уже не грудной. По такому случаю могли бы и на тещу оставить.
Он молча, с досадой пожал плечами.
У Полины их ждал сюрприз: объявился Сапрыкин. Похоже, тетка и сама не ждала сюрприза — объявился он, как всегда, внезапно, часа полтора назад, но уже переоделся, сидел за столом, накрытым на четверых, в выглаженной линялой сорочке и домашних штанах; вишневки в лафитничке убыло примерно на треть, это и помогло Николаю определить время прибытия с точностью плюс-минус двадцать минут — по лафитничку, как по клепсидре. Объявлялся Сапрыкин у Полины набегами, наскоками, наездами два-три раза в году, больше недели-двух никогда не задерживался, зато и не изменял этому своему графику вот уже лет пятнадцать — с того самого дня, как угораздило его выпрыгнуть из вагона-телятника попить и облиться водой из шланга — тетка как раз поливала в огороде клубнику, — а поезд с его телятами взял да ушел, а Сапрыкин взял да плюнул поезду вслед, не стал догонять. Бог знает, что с теми телятками сталось, но перевозчиком скота он больше не работал, это факт, хотя долго еще околачивался при дороге, навещая Полину то линейным контролером, то экспедитором, то проводником на поездах дальнего следования, пока железнодорожные магистрали не обрыдли ему вконец, а может, Сапрыкина уже знали все службы МПС и отовсюду гнали Полина, во всяком случае, расписывала именно так. Последние несколько лет он вахтенным методом шоферил в Тюмени: летал туда самолетами Аэрофлота на месяц-два, потом по очереди отогревался у какой-нибудь «доброй дуры вроде меня», по определению Полины, отнюдь не строившей иллюзий относительно своего «десантника» — так прозвали его между собой сестры, Полина и мама, притом задолго до внедрения на Самотлоре вахтенного метода.
Теперь Сапрыкин сидел за столом, переодетый во все чистое, во все свое, а тетка встречала гостей в прихожей, одновременно служившей кухонькой. Вид у Полины был замороченный, она лишь рукой махнула на удивленное Натальино замечание, что у нее гость, и скривила рот, давая понять, что только Сапрыкина ей и не хватало для полного счастья, — они разделись и прошли в единственную комнатушку, освещенную мягким розовым светом торшера. Сапрыкин поднялся им навстречу, пробормотал «вишь, Колян, как быват», потрепал по плечу, хотел еще что-то сказать, но не нашелся, они постояли и сели на диван, а Сапрыкин в кресло. За время, что Николай не видел его, он обрюзг, полысел и выглядел Полине под стать, хотя когда-то был лет на десять помладше. Тетка села последней; подождали, пока Сапрыкин разольет настойку по рюмкам, потом переглянулись — ну, давайте, негромко пригласила Полина — и в полной тишине выпили.