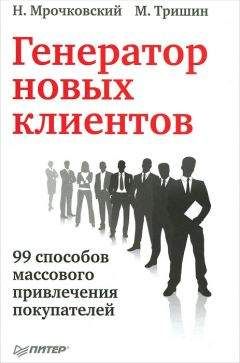— Кто-то прошелся по моей могиле…
— Но, бабушка, ты ведь жива, нет у тебя никакой могилы!
— Нет, но будет, и это единственное, в чем наши бедные христианские души могут быть уверены на этой земле.
Алина попыталась успокоиться и вернуться к прерванным размышлениям. «Я была рассеянна, читала, не вникая в смысл, думала о другом, нужно собраться». Но тут, пытаясь сфокусировать внимание, она испытала нечто почти непередаваемое — условно я назвала бы это пустотой, отсутствием, — подумала о потере равновесия, о некой «воздушной яме» (так бывает, когда самолет ныряет вниз и душа, на десятую долю секунды расставшаяся с телом, пугается). «Боже мой, чего мне бояться?!» Алина попыталась принудить себя к чтению. «Черт, как же мне надоел Орландо!» И все-таки ей следовало перечитать книгу до конца, если она собирается говорить об этом произведении умно… Хотя бы и понося Вирджинию Вулф во все рогатки. Книгу, возведенную общественным мнением в ранг шедевра, можно небрежно хвалить, но нападки должны быть точными и глубокими. Когда ее студенты попросили прочесть им лекцию о Вирджинии Вулф, Алина удивилась столь несвоевременному интересу, но сразу согласилась. Через несколько дней у нее возобновляется курс по английской литературе, и она могла вернуться к произведениям, которые помнила плохо, но считала — так ее учили! — безусловно интересными. Результат оказался плачевным: она зевала над «Миссис Деллоуэй», отчаивалась над «Волнами» и не могла дольше двух минут удержать внимание на «Орландо». Как же ей понять это чертово превращение в девушку? Алина читала и перечитывала отрывок: Орландо проспал, не открывая глаз, целую неделю, вокруг него царит суматоха, достойные Госпожи произносят дивные слова… «Хуже всего то, что все линии романа совершенны, каждая идеально выписана, но целое скучно до зубовного скрежета! — рассеянно думала Алина. — Потом Орландо просыпается женщиной: кто-то чудесным образом наделил ее всеми признаками дамского пола, но она нисколько не удивлена. — Алина сомневается. — Возможно, виноват мой английский и от меня ускользает часть смысла? Пожалуй, стоит взять французский перевод. «I am the guardian of the sleeping fawn — Я стерегу уснувшего олененка». Как это понимать? До сих пор в Орландо не было ничего от невинной маленькой косули, трубы вот-вот обратят добродетели в бегство, они словно защищают спящего: но от чего, черт бы их побрал?! Неужто тот факт, что Орландо во сне сменил пол, подтверждает победу Истины?»
Алина чувствовала смутное беспокойство, со всей очевидностью понимая, что ей не удается направить свои рассуждения в нужное русло. Нет, Алина, конечно, не объясняла свое состояние именно этими причинами, она по-прежнему полагала, что не все улавливает (Неужели на меня все еще влияет тот странный «намек» на землетрясение?), как вдруг поняла, что тот молодой блондин молча стоит перед ней и с улыбкой ждет, когда она его заметит.
— Нет ли у вас аспирина? У меня ужасно болит голова.
Алина не нашла ничего странного в том, что незнакомый человек просит у нее лекарство, напротив, мимолетный контакт принес ощущение смутного блаженства. Спроси она себя: «К чему бы это?», ответ был бы следующим: «Он на мгновение отвлек меня от раздумий о собственной профессиональной непригодности!»
— Возьмите две таблетки — дозировка небольшая.
Алина проводила незнакомца взглядом: он вернулся за свой столик и, поморщившись проглотил лекарство. «У него кофе несладкий», — сказала себе Алина, не задумавшись, почему она так в этом уверена (но мы-то знаем!), и, верная чувству долга, снова углубилась в текст «Орландо».
А я, пожалуй, позволю себе отдохнуть от классики…
* * *
А кем, в сущности, была Алина Берже до того, как утратила половину своей сущности? Я позволила Орланде увлечь меня, бездумно восприняв его презрение к Алине, а это совершенно несправедливо и оскорбляет мое профессиональное достоинство — не люблю попадать впросак по глупости. Безумное приключение, в которое он — или она? — окунулся с головой, как если бы это было самым естественным делом на свете, поражает и ошеломляет меня (что естественно!): нужно только помнить, что до разделения это безумие было частью Алининой натуры. Эта жизнь разумной женщины, которую я выбрала, — что означает: она его не хотела, и ему оставалось либо заткнуться, либо уйти. Орланда смотрит на Алину изумленным взглядом и думает: «Она утратила половину себя самой и ничего не чувствует?» Но как же мне понять Алину? Я сразу решаю, что искать нужно в детстве: вот Алине двенадцать лет, это крепкая, уверенная в себе девочка, у нее размашистая походка, она громко смеется, врывается в дом, как ураган, бросает пальто на кресло в гостиной, швыряет, не глядя, ранец.
— Боже, до чего ты мужеподобна! — говорит, вздыхая, ее мать.
Эти слова не взорвались в Алинином мозгу — они внедрились в ее сознание бесшумно, Алина ушла к себе, разбросала свитер и туфли по комнате и отправилась мыться: в старинном лицее, где она занималась гимнастикой, ученицам внушали непреложные правила личной гигиены, вот только душевая там работала через два дня на третий. Не знаю, возможно, Алина смутно надеялась, что теплые струи, омывающие тело, унесут с собой ужасные слова матери, но те бесшумно преодолели все защитные барьеры и просочились в болото памяти, осели под зыбучими песками забвения, невидимые взглядом, они дрейфуют, оседают и гниют, заражая воду, питающую корни будущего. Чуть позже у Алины случились первые месячные, но она не удивилась и не испугалась (слава мадам Берже!), обнаружив утром кровь на пижамных штанах, и взяла в ванной две гигиенические прокладки — одну «на сейчас», другую — «на потом», «на смену», для школы. Следующим вечером, за ужином, Алина выслушала возмущенные инвективы матери:
— Дожили! Мадлен теперь пользуется моими прокладками! Запасная коробка почти пуста. Невероятно, я всегда считала ее такой честной!
Мадлен трижды в неделю приходила к ним убираться.
— Да нет же, мама, это я взяла, — сказала Алина.
— Как?! Ты не сказала мне о первых в жизни месячных?
Наставляя дочь, госпожа Берже не уточняла, что та должна будет сообщить ей о великом событии.
— Но это же само собой разумеется! А боли? Ты что, ничего не почувствовала?
Отсутствие недомогания в «критические дни» было верхом «неправильности». Роковые слова, дремавшие в темных глубинах памяти, зашевелились, вернее, они никогда не замирали в неподвижности, незаметно и бесшумно отравляя мозг. Так что лобовой атаки не случилось, но уже вторая менструация вызвала у Алины легкие спазмы внизу живота, и успокоенная госпожа Берже посоветовала дочери полежать денек в постели. Алина не захотела пропускать занятия по геометрии и биологии — она их любила больше всего — и отправилась в школу, наплевав на свою матку, но через месяц боль оказалась такой сильной, что она пролежала в постели весь день, обложенная грелками с кипятком (по мнению мадам Берже, это было лучшее средство от дамских недомоганий!).
Так началась капитуляция Алины. Она поняла, что в «дни гигиенической прокладки» не следует — по практическим соображениям, на описание коих Вирджиния наложила табу! — ни бегать, ни ходить размашистым шагом. Дальше она сдавала позиции постепенно и незаметно. Ее густые роскошные волосы укротили лучшие парикмахеры, она перестала ломать ногти, делая что-нибудь руками, и научилась высказывать свои мысли, не обижая собеседников. Она полюбила нравиться — а что, как не это, убивает мальчика в девочке! В день семнадцатилетия отец сказал Алине, что она стала очаровательной девушкой, а мадам Берже, соглашаясь с мужем, важно кивнула (честно говоря, она удивилась, что ее сдержанный супруг оказался способен на столь искренний комплимент). Алина нуждалась в похвале, потому что ей приходилось все время обороняться от смутной и немотивированной грусти.
Я вовсе не утверждаю, что Алина сожалела о свободе движений и размашистой походке, — она ведь не знает, что отреклась от них; не верю я и в то, что она стала сдержаннее выражать свои мысли и чувства и избегать подводных камней только потому, что ей надоело набивать синяки и шишки из-за собственной прямоты. Любовь Алины к геометрии тоже пошла на убыль — мать часто повторяла ей, что женщины ничего не понимают в цифрах, — так что, закончив университет, она написала блестящую диссертацию о Прусте, которая пылилась теперь на полке в библиотеке, в числе десяти тысяч подобных работ. Потом Алине предложили место ассистентки профессора на филологическом факультете — тот был достаточно стар, и Алина надеется получить в один прекрасный день его должность и место.
Короче говоря, жизнь моей героини устроилась более чем благополучно, вот только ей не следовало шагать по жизни широким шагом — чтобы не оказаться ненароком в секретных подземельях собственного подсознания, и нельзя было хохотать — слишком громкий смех мог эхом отозваться в закоулках памяти. Она не вышла замуж, хотя относилась к числу именно тех женщин, на которых мужчины охотно женятся, и это был единственный момент, в котором она стойко сопротивлялась желаниям недоумевающей матери.