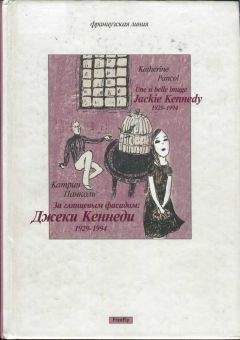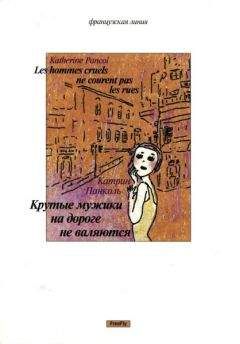Я была одной из них. Я слушала эту жалобную песнь, и глядя на печальный хоровод подруг, сознавала, что единственное, от чего нам так и не удалось избавиться, это ненависть.
Оседлав свои метлы, они запевали новый куплет, готовые втоптать противника в землю, и с каждым словом из их гневных уст вылетали жабы, слизняки и сочился змеиный яд. Мужики превращают нас в сиделок. Они стонут, а мы их успокаиваем, холим и лелеем. Они уходят от нас бодрые и решительные. Они пользуются нашей безграничной добротой и ничего не предлагают взамен.
Мы с Кристиной сидим на остановке. Сорок третий автобус запаздывает. На нас брюки, черные найковские кеды с белыми шнурками и свободные ветровки с капюшоном. Мы вытягиваем ноги, устраиваемся поудобнее и, сжимая кулаки в карманах, разглядываем мужчин, которые проходят, не замечая нас.
– Я все делаю сама, – говорит Кристина. Я научилась полностью обходиться без мужчин. Я работаю, снимаю квартиру, плачу налоги, в кино хожу одна, отдыхать езжу с подружкой, на рождество отправляюсь к родственникам. Я ужинаю перед телевизором с подносом на коленях, ложусь в постель с книжкой, ласкаю себя сама, чтобы побыстрее уснуть. Никто меня не беспокоит, никто не дергает, не просит сделать то, сделать это. Я совершенно спокойна. Перед сном я рассказываю себе свою любимую историю, всегда одну и ту же, потом послушно закрываю глаза и засыпаю как младенец…
Она опускает голову, смотрит на свои ноги, механически болтает ими. В этой обуви она похожа на жителя дикого запада. Ее ноги свисают как две безжизненные куклы.
– Но я так больше не могу, – продолжает она. – Я смертельно устала от одиночества. Я просто сдалась. Я женщина без будущего. И знаешь, когда вот так смотришь телевизор с подносом на коленях, ужин всегда кажется холодным.
Мы с Валери сидим в маленьком кафе на улице Шмен-Вер. Выбрали столик в зале для курящих, положили перед собой пачки сигарет и зажигалки, заказали разные блюда, чтобы потом попробовать друг у друга. Валери – миниатюрная блондинка. Волосы уложены завитками, на щеках – симпатичные ямочки, педантичные реснички нависают немым вопросом о смысле жизни. Валери не ищет легких путей, однозначных решений и банальных ответов. Участь усталых и покорных – не для нее. Она хочет докопаться до самой сути, вкусить сокровенного знания, истинной правды. Сигарета прикурена, зажигалка возвращается на место. Валери затягивается с деланной легкостью. Замирает. Вдыхает. Она врала мне с самого начала, пора раскрыть карты, чтобы наша дружба наполнилась смыслом. Вот она – потаенная суть, вот он – вкус правды. Валери смотрит мне в глаза, не отводя взгляда. Должно быть, она боится, поскольку исподволь продолжает меня рассматривать. Я стараюсь быть мягкой, нежной, плавной, расслабляю руки и ноги. Я стараюсь казаться открытой, доступной. Я тоже смотрю ей прямо в глаза, пытаюсь наполнить свой взгляд любовью.
– Я тебя обманула. Человек, которого я люблю, не мужчина, а женщина. Это продолжается три года… Я пыталась себя побороть, но ничего не выходит…
Я тоже вдыхаю дым с блондинистой деланной легкостью. Так вот в чем дело. Обычная история. Может быть, не совсем обычная, ибо любовь здесь под грифом «секретно». Валери приняла мой жест за знак одобрения, за знак ответной любви. Она улыбается. Теперь она может все мне рассказать, я все равно буду любить ее.
Мы всегда встречались с ней наедине, но она говорила, что хочет встретить мужчину, родить детей.
Словно прочтя мои мысли, Валери подхватывает: «Да, я действительно хочу встретить, родить… все не так просто».
Слово «смысл» во всех его смыслах – это не так просто.
Чарли. На самом деле ее зовут Шарлотта. Она только что переехала, разбирает вещи. Полгода тому назад она встретила прекрасного иностранца, мужчину своей мечты и буквально бросилась ему на шею. Они слились в поцелуе, и прожили полгода в тесном объятии. Самолеты неустанно летали туда-сюда, доставляя ее к возлюбленному, его к возлюбленной. И вдруг что-то в ней оборвалось, будто кто-то дернул стоп-кран. Чувство кончилось. Самолеты приземлились. Сидя в своей Миннесоте, он недоумевает. По привычке бронирует место на трансатлантический рейс, но лететь больше некуда. Она раскладывает вещи по полочкам, словно пытается навести порядок у себя в голове. Машинально выбрасывает старый серенький свитер.
– Какая сила кидает нас к ним, а затем обратно? Почему так происходит?
Аннушка. Наполовину англичанка, наполовину полька. Причудливое создание, волею судеб осевшее в Париже. Учит французский, познает себя. Делит всех людей на две категории: тех, кому свойственно думать, и тех, кому это несвойственно. Ее мужчина любит красивых женщин в красивых платьях. Она же платья терпеть не может. Платья мешают ей двигаться, мешают чувствовать себя естественно. В один прекрасный вечер она решается сделать ему подарок, и в благодарность за минуты блаженства, которые он дарит ей, не скупясь, надевает платье, белое, обтягивающее, выгодно подчеркивающее грудь, талию, бедра, все то, что она любит прятать, тайные знаки ее женственности. Она красит губы, распускает волосы. Он входит в комнату и восклицает:
– Как же ты хороша, черт побери!
Он приближается к ней. Его глаза полны любви, его глаза говорят спасибо, спасибо за это платье, такое женственное, божественное, обтягивающее, притягивающее как магнит, спасибо, спасибо, спасибо. Он приближается к ней, распахивает объятия, хочет обхватить ее, унести на крыльях любви, расцеловать всю, с головы до ног. Она – его женщина, он – ее мужчина, жизнь начинается сначала. И вдруг она кричит:
– Оставь меня! Не подходи! Не прикасайся ко мне! Не говори, что я красивая! Я не могу этого слышать! Никакая я не красивая!
Она рыдает, не подпускает его, она вне себя.
Она как подкошенная валится на постель, на их общую постель, и плачет, плачет. Над собой, над ним, над этой любовью, от которой хочется бежать.
– Ну почему? – вопрошает она, жалобно растягивая губы. – Почему так непросто принимать знаки любви? Если бы ты сказала, что я красивая, я бы не испугалась. Почему мне так тяжело слышать это от него?
Почему?
Это гораздо сложнее, чем колдовские заклинания, чем проклятия, которые мы насылаем на мужчин, пожелания гореть в аду.
Мой друг Грэг. Его сердце кровоточит. Он хвалится, что нашел способ примириться с женщинами: он обходит их стороной. Держится на расстоянии. Он не был с женщиной уже два года. Целых два года. У него за плечами два развода, алименты так высоки, что он, как проклятый, снимает один фильм за другим. У него по ребенку от каждой жены. Детей он почти не видит, если не считать коротких встреч в выходные дни. Он наспех ведет их в Макдональдс, покупает им игрушки, жадно разглядывает каждую мелочь, проводит пальцем по лбу, гладит маленький носик, ротик. Без конца повторяет: «Говори мне ты, я твой папа, ты, папа» до тех пор, пока адвокат жены или гувернантка не придут, чтобы забрать их. Он толстеет, сидит на диете, отращивает бороду, путешествует, загромождает комнату смешными безделушками, пишет сценарии. Он человек богатый, влиятельный, его все знают. Когда выходит очередной фильм, критики отмечают, что он ненавидит женщин, что он вообще не любит людей. На экране хлещет кровь, раздаются выстрелы, самая преданная дружба оборачивается предательством, резня неизбежна, мужские и женские тела разлетаются на мелкие кусочки.
– Знаешь, я хотел бы снимать добрые фильмы… Но это сильнее меня.
Вечер. Мы сидим с ним в холле Нью-Йоркской гостиницы Сан Реджис. Он рассказывает мне как начал снимать.
Первую камеру ему подарила мать в обмен на небольшую услугу. Она попросила заснять свидание в номере мотеля. В комнате двадцать три. – Они не прячутся, не опускают штор, ты просто снимешь их и принесешь мне пленку. И у тебя будет камера, твоя собственная. Представляешь, своя камера, в двенадцать лет! – Мама, – спрашивает он, – а эти люди, за которыми мне придется подглядывать, шпионить, они кто? – Об этом не беспокойся, просто сними их и никому не рассказывай. Мне позарез нужна эта пленка, понимаешь? – Комната двадцать три? – переспрашивает он. – Да, да, я тебя привезу и подожду там, я буду «на шухере». Мне нужна эта пленка, очень нужна, ты мне веришь? – Хорошо, хорошо, мама, – отвечает он. Он любит ее больше всех на свете. Он спит в ее постели, когда отец не приходит ночевать, он обнимает ее, когда она тихонько плачет. – Хорошо, я поеду туда, я не хочу, чтобы ты плакала, чтобы ты грустила.
Он взбегает по пожарной лестнице на второй этаж и пристраивается на ступенях, ощущая тяжесть камеры на плече. Вывеска мотеля качается на ветру у него перед глазами. Он с трудом различает ржавые цифры «два» и «три» над дверью номера, включает камеру и резким, уверенным движением наводит ее на кровать. Мама была права, шторы подняты. Они не прячутся. Кто их может заметить в таком месте? Он смотрит вперед через видоискатель и видит постель, разбросанное белье, попеременно ловит чью-то ногу, грудь, бьющиеся бедра. Мужчина виден только со спины. Опираясь на предплечья, он склоняется над распластанной женщиной. Его белые пальцы судорожно сжаты. Мотор. Мальчик содрогается всем телом. Он понимает, что происходит что-то запретное, опасное, а он делает сейчас что-то такое, о чем будет жалеть всю свою жизнь. Он хочет остановиться, спуститься обратно, но там, в машине с откидным верхом, сидит мать и подбадривает его жестом. – Давай, давай, ну же! Чего ты ждешь? И он с нарастающим удовольствием ловит фрагменты рук и ног, животов и спин. Эти мелкие фрагменты движутся, краснеют, извиваются, тянутся друг к другу. Словно приклеившись к глазку камеры, он следит за происходящим, соучаствует. Он видит белую с черными волосами спину мужчины, смуглую женскую кожу, на которой отпечаталась резинка трусиков, а вот следа от бюстгальтера не заметно. Груди дрожат, качаются. Мужчина тоже дрожит, напрягается, отчего на шее проступают синие вены. Ягодицы у него плоские, белые. Его губы жалобно скривились, губы женщины жадно впились в подушку. Все закончилось, но мальчик продолжает снимать, он уже не в состоянии остановиться. Он ждет когда они повернутся, хочет видеть их лица. Он не знает как люди ведут себя после того как все случилось. Наверное, они светятся от счастья, целуются и, довольно насвистывая, гладят друг друга по голове. А может быть, лижутся как собачки, отряхиваются и разбегаются. Он не знает этого, но хотел бы знать. Сам он еще никогда этим не занимался. Он чувствует как что-то твердое вырастает у него между ног, он поднимает камеру, пытается поймать в объектив лицо мужчины, но видит только затылок, уткнувшийся в женскую ключицу. Его мокрые от пота волосы извиваются морскими водорослями в час отлива… И вдруг мужчина поднимается, натягивает одеяло на грудь, прижимает женщину к себе. Он поворачивается и смотрит в объектив, его взгляд острым клинком втыкается мальчику в глаз и колет, колет. Кровь бьет фонтаном. Ребенок чувствует как слепнет, он не может, не хочет больше видеть. Он стонет, камера сползает с плеча. Он ругается, ругается последними словами, до боли в связках. Он пытается раздавить камеру животом. Он не должен был, не должен был этого видеть.