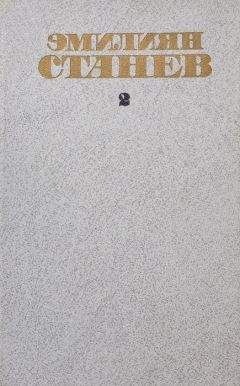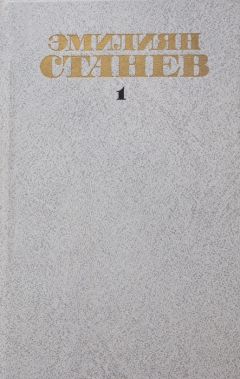— Я отвезу вас на лодке. Иначе вы не найдете. Когда вам было бы удобно?
— Можно я возьму с собой кого-нибудь из моих соотечественников?
— Не надо. Я показываю свои работы не всем. — Он обернулся, искоса взглянул на меня, видимо угадав мои опасения, потом посмотрел на свои облезлые ручные часы и поднялся.
— Мне нужно в город. До свиданья, мадам. В котором часу вас завтра ждать?
— Лучше всего около четырех. Я буду на пляже.
Он поклонился, не протянув мне руки.
Его поведение немного задело меня. Он даже не счел нужным себя назвать. Мое имя он знал, об этом говорил адрес на конверте. Я проводила его взглядом, пока он не исчез в лабиринте извилистых улочек между каменными оградами…
Я была довольна, более того — очарована простотой, с какой он рассказал о себе, его интеллигентностью, так отличавшей его от окружающих, его затаенной гордостью, за которой угадывалось страдание. Чтобы такой художник не имел известности! Быть может, он сам не сознавал, как талантлив!.. Надо во что бы то ни стало увидеть его картины, и, если они такие же, как мой портрет, я заинтересую им Луи…
Он нравился мне и как мужчина. Я представляла его себе иначе одетым, в иной обстановке — высокий, сухощавый, в манере держаться — холодная сдержанность и обаяние. Из головы не выходили его слова: «Истинная сущность человека не исчезает. Это не идеализация, а стилизация». Я радостно повторяла про себя эти слова, уверовав в их справедливость. И говорила себе: «Да, я такая, какой он меня увидел. Я это знала, но не верила.
Если бы верила, чувствовала бы себя счастливой, независимо от того, есть у меня Луи или нет никого. Я убереглась бы от царящего в мире ужаса, была бы способна любить, радоваться жизни…»
Возвращаться в гостиницу не хотелось. Я сидела на пляже, думала и мечтала. Под мерные вздохи моря так хорошо мечталось, морская ширь, вобрав в себя золотые отблески неба, ласкала меня, уносила в другой, чарующий мир, где обитала счастливая Ева с рисунка…
Я вернулась в гостиницу, никого из группы не встретив, когда солнце уже садилось. В эти часы все были на прогулке за городом. Переодевшись, я спустилась в ресторан ужинать. Настроение было приподнятое, я веселилась и любезничала с моими соотечественниками и в то же время была от них дальше, чем когда-либо, хоть и сыграла одну партию в бридж, чтобы не огорчать чету Боливье.
Мне не терпелось остаться одной, порыться в приятных воспоминаниях, в тех чувствах, которые подтвердили бы, что изображенная на портрете Ева еще существует в действительности. Вспомнилось первое причастие — как я вышла из церкви Сен Сюльпис в белом платьице, с венком на голове, сконфуженная и растерянная оттого, что не в силах поверить в бога, хотя моя с детства удрученная душа жаждала веры и утешения; как моя мать, ревностная католичка, обняла меня у входа в церковь, откуда доносились торжественные звуки органа. Затем — ранние утра в детской, где я просыпалась с ощущением радости, счастья и пыталась поймать оранжевое пятно на стене, которое напоминало мне об иволгах возле загородного дома моего дядюшки; огромный старинный шкаф с металлическими ручками, которые волшебно серебрились в раннем свете утра; мою первую влюбленность в сына дядюшкиного соседа, летний дождик, поцелуи, которыми мы обменялись в рощице за домом, — воспоминания детских лет, хранившиеся в моем сердце, точно сновидения, чтобы удержать надежду на счастье. Наконец, дни, которые мы провели вдвоем с Луи в деревушке под Парижем, речка, где мы удили рыбу, и я тихонько запела: «В пору вишен, в пору любви…» И чем больше таких воспоминаний обнаруживала я в своей памяти, тем сильнее проникалась верой, что наш мир — это мир счастья, правды и бессмертной души, что я всегда знала это, но пренебрегала своим знанием, забыла. Я поминутно вскакивала с кровати, рассматривала себя в зеркало, выходила на балкон и мотрела на море. Близилось утро, а я все не могла уснуть из-за неодолимого желания поскорее освободиться от накопившегося яда, очиститься, возродиться. И то любовалась рисунком, то снова выходила на балкон. Мне казалось, что этой ночью ко мне возвращается молодость, дни девичества, что я смотрю на мир другими, ликующими глазами. Все в гостинице спали, море нежилось в сумеречном свете луны, данаиды лили воду в свои бездонные кувшины, фосфоресцирующая полоса отделяла море от неба, а я ходила босиком из комнаты на балкон и обратно, возбужденная, завороженная… Я была влюблена в себя, как девчонка, не сознавая, что готова влюбиться в художника и что главная причина всему — именно он… Под конец, утомленная этим очищающим взлетом души, позабыв о Луи и нашей совместной с ним жизни, я уснула.
Утром, спустившись к завтраку, я спросила служащего гостиницы, не знает ли он в городе одного художника — любителя.
— Да, есть тут такой. Чудак, Тасо его зовут, вечно слоняется по городу. Его все знают, потому что он частенько выпивает с матросами и рыбаками.
Так я узнала его имя, которое, впрочем, уже слышала, когда его приветствовали посетители приморской корчмы.
Уже в три часа я была готова — надела серые габардиновые брюки, темно-красную блузку — и в четыре отправилась на пляж. Мне было стыдно, вернее, страшно, как бы из гостиницы не заметили, что я сажусь в лодку.
На том месте, где я думала его найти, никого не было. Я огляделась по сторонам. Он ждал меня в маленьком заливчике за скалами. Я оценила его предусмотрительность, но в то же время немного обиделась, потому что он не удосужился изменить свой вид — на нем были те же поношенные блуза и брюки, те же ужасные парусиновые туфли, тогда как я так тщательно продумала свой туалет. Я вспыхнула, когда он подал мне свою жилистую руку и просто-напросто швырнул меня в свою безобразную лодку с оглушительно ревевшим мотором. На сиденье лежала подушка — об этом он все же позаботился.
Я приготовила уйму вопросов, которые собиралась ему задать, но суровое, сосредоточенное выражение его лица смутило меня. Мое смущение от него не укрылось, он дважды улыбнулся мне весьма любезно, заботливо усадил и, заняв место за рулем, сказал:
— Моя хибарка вам не понравится, мадам, но зато. надеюсь, вам понравятся картины. Я везу вас, чтобы вы посмотрели их, а не чтобы купили. У меня нет ни одной для продажи.
Я спросила, кому он их продает. Он усмехнулся.
— Приезжает сюда один софийский художник. Ему…
— Но позвольте… А он потом их продает как свои? Как же так?
— Смешная история. Я вам потом расскажу. — И он замолчал.
О, как он разочаровывал меня! То представление, какое у меня вчера сложилось о нем, не имело, казалось, ничего общего с тем человеком, которого я видела сегодня. Он был сух и замкнут, даже мрачен. Я жалела, что согласилась поехать — бог весть, что там у него за берлога. Человек он необщительный, возможно, самовлюбленный маньяк, и картины, должно быть, никуда не годятся. Ему случайно удался мой портрет, и это польстило моему дурацкому самолюбию, соблазнило мыслью о какой-то истинной моей сущности. Теперь все окончится полным разочарованием. Буду потом раскаиваться, опять погружусь в тоску и уныние.
Лодка уносила нас в открытое море, старый мотор оглушительно хрипел и задыхался, сама лодка пропахла рыбой, дно было грязное, черный нос отвратительно и нахально вздымался. Мы проплыли мимо заставы, часовой с берега приветственно помахал нам рукой.
— Меня здесь зовут просто по имени, Тасо, — сказал он. — Если хотите, можете называть меня так же.
— А знаете, что означает «тассо» по-итальянски?
Он улыбнулся.
— Кажется, знаю. Барсук.
Его улыбка приободрила меня, обрадовала. Это была добрая улыбка юноши, сосредоточенного на каком-то деле. Я украдкой рассматривала его лицо. Под загаром, который грубил его, оно странным образом менялось, принимало самые разные выражения. За тот час, что мы провели в пути, этот человек становился для меня все большей загадкой. Он казался то постаревшим и нездоровым, то злым и насмешливым, то юношески жизнерадостным и светлым. Мы говорили о городке и его обитателях.
— Люди тут славные, — сказал он, не глядя в мою сторону, хотя я чувствовала, что он за мной наблюдает, отчего его общество почти тяготило меня. — Но они уходят в прошлое, как и сам городок. У нас очень быстро все меняется, не задерживается надолго.
— Вы сказали, что были моряком. Тогда-то, наверно, и выучились говорить по-французски?
— Я учил французский еще в гимназии, а уж потом в плавании. Я и английский немного знаю.
— Вы не женаты?
Он улыбнулся тонкой, насмешливой улыбкой.
— Когда-то, в молодости, был. А теперь живу так, по-холостяцки…
После каждого его ответа словно оставался горький осадок, мешавший мне расспрашивать дальше.
Показалось устье какой-то реки. Ее воды нанесли в море песчаную отмель. Лодка повернула к реке, и я увидела на берегу домик. Казалось, он был выброшен сюда кораблекрушением. Это было нечто вроде шатра кочевника, на макушке торчал толстый шест, почерневший, уродливый, стены представляли собой жалкую мешанину из досок, брезента и листов толя, таких же безобразных и черных. Перед дверью лежал огромный пес — белый с черными пятнами, уши торчком. Он поднялся, замахал лохматым хвостом.