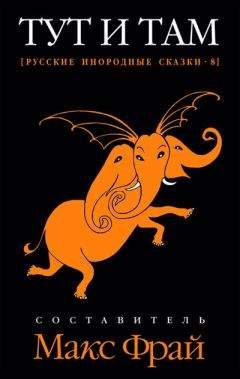— Привет, па, ты что?
— Мы же договорились, сегодня гуляем вместе. Уже десятый, если не спишь, вставай, пойдем. Но только если не учишься. А позавтракаем где-нибудь в городе.
Последнее взбодрило Айзека, он сладко потянулся, прогоняя остатки дремоты, и, завидно легкий, гибкий, вскочил на ноги. Утром даже лучше гулять с отцом, утром у дружков дела: кто уже работает, у кого учеба, утром они совсем другие — сосредоточенные, внимательные служащие, вдумчивые студенты, выполняющие волю родителей или прихоти амбиций. Это по вечерам в компании они курят, грубо сплевывают, матерятся и тискают девчонок.
Через несколько минут Фаррыч и сын уже шли бок о бок по тенистой кленовой аллее. Небо предвещало жаркий безоблачный день. Деревья над головами вели какой-то нескончаемый спор, переходя то на крик, то на шепот, отчего непослушные волосы Айзека рассыпались по лицу, ведь наушники с томительной тишиной в них без дела висели у него на шее. При отце гулять с музыкой в ушах неудобно — вдруг старик задумает что-нибудь объяснять, обидится, он в такие минуты несдержанный, зачем это надо, можно немного потерпеть, ведь прогулка кончится рано или поздно.
Фаррыч молча брел рядом с сыном, теребил серую пыльную тряпицу, чувствовал сквозь ткань рукоять сабли. Он покорно шел, не замечая ветра, дороги, и с удивлением гадал, неужели и эта прогулка кончится, неужели когда-нибудь настанет сегодняшний вечер, а тенистый сумрак этой же кленовой аллеи будет тих и прохладен. Еще Фаррыч с горечью признавал, что так всю жизнь и прожил скомканным человеком, радуясь маленьким, скромным удачам, которые, увы, были случайными в его жизни, нечаянно попадали в нее и так же нежданно ускользали. Теперь Фаррыч корил себя, что зря привыкал к редкому везению, надо было жить и помнить, что его удел — горе и боль, засыпать и просыпаться с этой истиной, не пытаясь ее ничем оспаривать, тогда, может быть, и сегодня ему не было бы так тяжело. Но как смириться с тем, что на тебе какая-то особая печать и не ты ее ставил, тебя даже не спросили, хочешь ты ее или нет, кто-то молча выбрал, выследил, одарил, призвал платить за любезности и проводил в это утро, и вот — оставляет одного корчиться остаток жизни. И он шел сдавленный, скованный, боясь, что сын спросит, что за сверток у него под мышкой и что там внутри.
Они долго шли, Фаррыч старался смотреть не только под ноги, но голова никла, и взгляд безутешно прятался, сужался до серой ленты асфальта. Айзек шел, стараясь казаться безмятежным и спокойным, припоминал обычное настроение, с которым он раньше гулял и разговаривал с отцом, но что-то мешало, жгло его. Он напрягся, украдкой, тревожно поглядывал на старика, задаваясь вопросом, вдруг отцу известно об угрозе отчисления, вдруг он хитро заманивает на стрелку с каким-нибудь преподавателем, вдруг впереди тяжкая сцена разоблачения — ни на одной лекции не был, ни одной работы не сдал, все отдавал футболу. Нет, отец не мог узнать, их телефон знает только декан, этот тучный и потный человек с перстнями. Да может быть, ничего еще не потеряно. Ну, пугнули отчислением, ерунда, все кое-как учатся, сдают и получают дипломы.
Они шли по пыльным, почти безлюдным улицам, и молчание становилось гнетущим. Какими-то роковыми казались Фаррычу простые повседневные мелочи, которые он обычно едва замечал. Капли воды на бордовых розах, выставленных из ларька, представлялись кровавыми, а вазы, в которых стояли цветы, были точь-в-точь урны под пепел. Мимо бесшумно спешил куда-то пустой автобус с черной полоской «Ритуальные услуги», на углу из церквушки вырывались жалобные женские голоса, пес-калека бездыханно спал в тени липы, мимо гремела бомжиха, ее лицо казалось выкопанным из могилы.
Солнце раскручивало рулетку жары, Фаррыч отметил, что в жару невзгоды приобретают приторный и удушливый привкус. Рука обнаружила, что сигареты остались на парапете балкона. Ковылял он, стараясь не смотреть на Айзека, и вздрогнул от бодрого, звонкого голоса.
— Па, а па, — Айзек подергал отца за рукав пиджака, — ты ничем не расстроен, па, может, давай никуда не пойдем?
— Нет, все хорошо, Айзек, я просто не рассчитал с погодой и уже немного запарился. Сниму-ка пиджак.
Ему было совсем не жарко, а наоборот, озноб, содрогания, вторая ночь без сна — мутно было у него на душе и холодно. Но Фаррыч принялся скидывать пиджак, старательно вытягивал руки из рукавов, вытирал с холодного лба несуществующий пот, словно стремился выслужиться перед сыном, отвлекая от своих тягот. Тряпица разметалась, ножны сабли выступили и лизнули летнее утро серебром чуть выдвинутого клинка.
— Па, что это у тебя? — Айзек мигом заметил, бессильные руки Фаррыча выпустили саблю. Он давно не видел на лице сына такого уважения, восторга, интереса к себе, как сейчас, когда Айзек медленно и почтительно осматривал саблю и, наполовину вытянув из ножен, гладил пальцами клинок. — Вот это да, па, откуда она у тебя? Наверное, дорогущая! А ведь с такой опасно разгуливать. — Он глянул по сторонам, мигом укутал и почтительно передал сверток отцу.
Айзек подумал, что отец направился в какую-нибудь антикварную лавку, чтобы продать саблю, для этого взял его на всякий случай с собой. Он решил не раздражать отца расспросами, видел: старику и так нелегко расставаться с этой вещью. Его беспокоили решительный и мрачноватый вид отца, задумчивость и обреченно-сгорбленная спина. Таким он Фаррыча никогда не видел, хотелось как-то вывести его из задумчивости.
— Кстати, а куда мы идем, па?
— Я давно собирался показать тебе, где жил, когда только-только приехал в город, начал ухаживать за твоей матерью, и куда привел ее впервые в гости. В тех краях все больше крупные заводы, а около моего бывшего общежития — пустыри да холмы, вот ты и посмотришь, как жил твой отец, когда был чуть постарше тебя.
— А может быть, сходим туда в другой раз, па, ты забыл, ведь сегодня футбол… — Айзек не стал продолжать, заметив, что отец упрямо идет туда, где заводы и пустыри. Холмы и общежитие уже заранее удручали Айзека, он чувствовал себя так, как будто его мощные боты вдруг стали малы размера на два. — И долго ты жил среди этих заводских труб и пустырей? — с наигранным интересом спросил он.
— Пару лет, потом мы с матерью поженились и получили квартиру, тяжело получали, с трудом. А кто играет сегодня? — примирительно спросил он.
— Сегодня финал, все ждут улётной игры, правда, многие уверены, что будет ничья.
— Вечером узнаем. — После такого приговора стало ясно, что день потерян.
Айзек с наигранной беспечностью шагал, поглядывая по сторонам. В маленьком кинотеатре шел новый Бонд, у пацана на остановке — клёвые наушники и дорогущие ролики, этого нельзя не заметить. Становилось радостно и грустно оттого, что навстречу идут две девчонки, их ножки стройные, а юбки — мини, они спешат уверенно, плавно покачивают бедрами, одна как бы случайно отвернулась, а другая, повыше ростом, окинула Фаррыча небрежным взглядом серых глаз. Заставили посторониться два парня на великах, у обоих горные, пронеслись и уже исчезли за поворотом. Возле магазина «Цветы» парнишка, чуть постарше Айзека, стоит, щерится по-взрослому, курит, кинулся услужливо собирать букет какой-то тетке. Девчонка в голубых брючках и такой же ветровке всем предлагает новый «Орбит». И ему протянула пачку, а Фаррыч послушно выслушивал про приз и комкал в руке ярко-синий буклетик. Вообще, заключил Айзек, не так уж все паршиво было бы, если б он захватил скейт. И, воспользовавшись задумчивостью отца, решительно надел наушники — улица тотчас же очнулась, немного съехала, улетела и послушно заспешила в ритме.
Между тем Фаррыч рассказывал что-то, обратно натянул пиджак, и они все шли, шли по жаре. Айзек, облизывая сухие губы, с завистью проводил взглядом проезжавшим мимо красный грузовик «Колы». Фаррыч не замечал улиц — только сквозняки и асфальт. Прохожие, особенно старушки, внимательно разглядывали их, еще бы: строгий старик в старом костюме, а рядом — рыжий паренек в полосатой футболке до колен, в широченных штанах (как они держатся, ведь мальчишка совсем худой), а наушники до чего ж большие, даже слышно, что в них гремит.
Незаметно они пересекли город и приближались к тем самым пустырям на окраине, где когда-то было общежитие, а теперь — заброшенный дом, о чем Фаррыч умолчал. Но уже должны начинаться бетонные изгороди заводов, уже должны пустыри выглядывать из-за домов, а вместо них петляют, петляют улочки между пестрых башенок нового микрорайона. Айзек подумал, что отец возмущен его невниманием, и стянул наушники.
— Никак не пойму, черт-те что. Здесь за полгода все так поменялось, понастроили ульев, — ворчал Фаррыч и старчески трясся от нетерпения и гнева.
Когда они вошли в заводскую часть, где пыльные ленты асфальта кружили вокруг высоких железных щитов, увенчанных колючей проволокой, в носу защипало от едкого дыма и кислоты. Фаррыч успокоился: