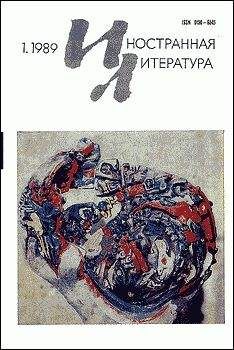— С чего ты взяла? — ответила мать и покраснела, и Маша не могла удержаться от смеха, видя ее смущение.
— Подумаешь, важность какая, — продолжала Маша. — Уж мне-то могла бы и сказать.
Элизабет рассердилась, и вовсе не потому, что думала, будто не пристало дочери задавать ей подобные вопросы, а потому, что почувствовала себя уличенной. Любовь, подумала она, господи ты боже мой, главное, чтоб человек был добрый. Остальное все скоро прогорит, как дрова в печи.
— Нет, — сказала она наконец, — другого у меня не было.
Ну и, конечно же, солгала, хотя скрывать ей вроде пока было нечего.
Может быть, Элизабет солгала ради Якоба Алена, ведь, право же, ему незачем было знать, как она подростком еще, вернее девочкой, легла в постель с мужчиной только потому, что он был добр к ней после бабушкиной смерти. В Богемии у него был собственный двор, небольшой, правда. В войну он за неделю потерял обоих сыновей; одного — во Франции, другого — где-то на просторах Атлантики. Жена его не смогла оправиться от удара и повредилась в уме. Так они и нашли друг друга, мужчина и девочка, поползли навстречу друг другу, потому что больше у них на этом свете ничего не оставалось. Любить она его не любила, он по возрасту годился ей в отцы, но он купил ей красивое платье и платок, и она ощутила себя под надежной защитой. Конечно же, она много чего наслушалась от соседей, но война шла к концу, и немцам пришлось выселяться из Чехословакии. Крестьянина занесло в Баварию, а Элизабет осела в Саксонии, потому что по дороге она познакомилась со своим будущим мужем. Крестьянин заклинал ее переехать к нему, писал одно письмо за другим, даже сам приезжал в Восточную зону, чтобы ее забрать. Но прошлое спало с нее, как спадают клочья изодранного платья. И у нее был муж, который ее вполне устраивал. Кто работал на шахтах, получал дополнительный паек. Чего ради стала бы она перебираться в Баварию, когда и в Саксонии было ничуть не хуже. А потом пошли дети, и у нее вообще не осталось времени ломать голову над всякими «если бы». Лишь теперь она снова начала вспоминать бабку, рапсовые поля, осенние безвременники на лугах и запах позднего сена и ромашки. Давно поблекшее в памяти обретало прежние краски. Ей вспоминались слова, которых здесь никто не говорил и которых сама она вот уже сколько лет не употребляла. Она никогда больше не была на родине. Сперва потому, что границы были закрыты, а позднее ее удерживал страх, она боялась, что это будут напрасные поиски времени, которое невозвратно ушло, и мест, которые больше не существовали.
— А я не хочу выходить замуж, — сказала Маша.
— Это ты только так говоришь, — возразила Элизабет.
Дочка ей и всегда-то причиняла больше хлопот, чем сын. Ханс, тот по крайней мере мог жить воспоминаниями об отце — был зеленый мотоцикл, красный мяч и большие руки, которые подбрасывали его вверх и уверенно ловили. А у Маши ничего такого не было, была только ревность да страх перед каждым чужим человеком, которого можно заподозрить в намерении отобрать у нее мать. В те времена Элизабет просто не смела привести кого-нибудь в дом. На Машу сразу нападала какая-нибудь хворь, у нее поднималась температура, а однажды она и вовсе сбежала и пришлось ее искать с полицией. Если кто-нибудь советовал: «Выдрать ее как следует — и все дела!» — Элизабет неизменно отвечала: «Девочка и без того сиротой растет». Но Маша все начисто забыла и, когда Ханс или мать заводили об этом разговор, слушала так, будто они вспоминают истории из чьей-то чужой жизни. Она отказывалась верить, что когда-то была такой капризной и глупой, тем более что теперь она была бы очень даже не прочь, чтобы мать нашла хорошего человека, с которым сможет жить вместе. И не только потому, что тогда она, Маша, могла бы пользоваться большей независимостью, а потому, что полюбила сама.
Сколько Якоб Ален ни пытался мысленно представить себе Элизабет Бош, он всякий раз с удивлением обнаруживал, что почти не запомнил ее лицо. Вот руки ее он запомнил, сильные пальцы с коротко остриженными ногтями и чуть покрасневшей кожей. О том, как она живет, он ничего не знал и был уверен только в одном: мужчины при ней нет. Не то она не пошла бы с ним без всяких ужимок и кривляний к дальнему пруду, не позволила бы накидывать себе на плечи куртку, вообще держалась бы по-другому.
То немногое, что Якоб Ален знал о женщинах, он узнал благодаря Грете, а также из фильмов и иллюстрированных журналов. После смерти Греты он несколько раз заглядывал в известные дома, а то и вовсе подбирал кого-нибудь на улице. Но это не приносило ни радости, ни забвения. И тогда он снова вернулся к уединенной тишине своего дома и жил там в окружении альбомов с марками, как Элизабет — со своими утками. Но теперь у него оставалось все меньше времени на марки. Он подправил забор, подстриг газон, пересадил два куста, выполол сорняки, посыпал дорожки красным гравием. И еще он надумал до наступления зимы оклеить комнаты новыми обоями.
Хотя, видит бог, у Алена были все основания использовать теплые дни позднего лета для отдыха, он согласился на самую поганую, как ему казалось, работу. Конечно, тут можно было зашибить несколько лишних марок, но согласился он не из-за денег. Вдобавок ту же самую работу с превеликой охотой выполнили бы турки и югославы. Нет, во всем была виновата Элизабет Бош или, точней сказать, желание Алена хоть что-то для нее сделать. У пирса стоял десятитысячник из Ростока, набитый липкими кувейтскими финиками. Ходили слухи, будто у них там туго с кормом для свиней, а свободных причалов в Ростоке нет. И работенка была в прямом смысле слова свинячья. Тюки слипались, приходилось разрубать их ножом вроде секача или мачете, чтобы потом их мог подцепить кран. Те, кто работал в трюме, казались самим себе какими-то каторжниками: все разило гнилыми финиками — башмаки, носки, волосы, даже сны по ночам. Якоб Ален как-то раз поскользнулся и вляпался в это гадкое месиво. Трое грузчиков с трудом вытащили его. После этого случая он бы наверняка плюнул на все, не будь, да-да, не будь на свете этой женщины. А вдруг она не знает, чем кормить свиней, думал он. Короче, он остался и написал Элизабет Бош второе письмо. Уж тут-то, думал он, она не может не ответить, он это заслужил. Во втором письме он попросил Элизабет прислать свою фотографию, ему это будет приятно, в его одиночестве на берегу моря.
Якоб и на самом деле чувствовал себя одиноким, и дни его были пусты, как не были уже давно. Каторжный труд в порту и уход за садом лишь ненадолго спасали его от тоски. Порой, сев перед портретом умершей жены, он отыскивал в памяти впечатления, которые дали бы ему право сказать: жить все-таки стоило. Но в их жизни было только это вечное «потом, потом», и два кратких путешествия ничего не изменили, когда врачи сказали ему, что долго она не протянет. Арденны и еще Амстердам, дальше они не рискнули. А в Динане, присев у основания цитадели, они смотрели со скалы вниз, на городок и на Маас, и прелесть пейзажа делала их еще несчастнее.
— Вот уж не думала, что мне еще будет так хорошо, — сказала Грета.
— Это только начало, — ответил он.
Хотя оба они знали правду. Но ложь была отрадна их сердцу.
Вот одно из этих воспоминаний и заставило Якоба закончить свое первое письмо словами: «Все было очень хорошо».
Просьба Алена привела Элизабет в некоторое замешательство. «Карточка... — думала она. — Нет и нет, зачем ему моя карточка?» И однако же, в этот день она чаще обычного заглядывала в зеркало. Пробовала разгладить морщины на лбу, потом махнула на себя рукой. Отродясь она не была красивой. «Нет-нет, зачем ему мой снимок?»
Письмо она положила в бельевой шкаф, туда, где уже лежало первое, а Якоб Ален и на сей раз не получил ответа.
Маша заявилась домой среди недели. Так у них не было заведено. Она была очень бледная и какая-то беспокойная, и это беспокойство передалось матери.
— Что с тобой? — спросила Элизабет.
— А что со мной может быть?
— Я ведь не слепая.
— А я говорю, что ничего со мной нет.
«Я вижу, — думала про себя Элизабет. — По тому, как она надевает пуловер, как ходит, как держит голову».
— Никак друг сердечный? — спросила она.
— Да будет тебе, мама.
Элизабет побоялась серьезной размолвки, промолчала и прошла на кухню.
«Все равно она ничего не поймет», — подумала Маша.
«Женатый мужчина, двое маленьких детей. О чем ты думаешь?»
«Уж так получилось».
«А его жена, она-то в курсе?»
«Может, в курсе. А может, и нет. Мы встречаемся то здесь, то там. Только бы нас не увидел никто из его знакомых».
«И ты можешь так?»
«Да будет тебе, мама, перестань, наконец».
Маша последовала за матерью на кухню.
— У меня голова забита семинарами да зачетами, — сказала она. А Элизабет Бош подумала: наверное, так оно и есть.
Потом они вместе пили кофе, а по радио женский голос пел песню про цыгана, который ушел, и ноги сами несут меня вслед за ним.