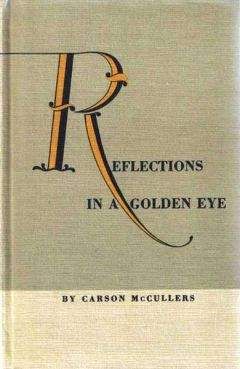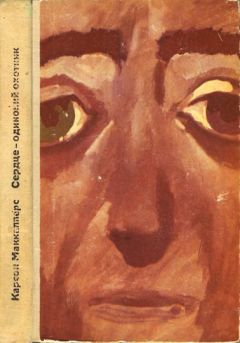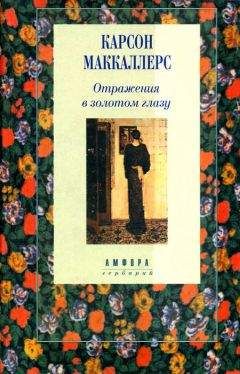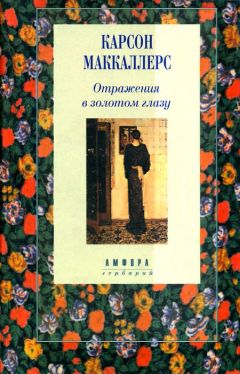— Ах ты, мерзавец!
Схватка закончилась так же внезапно, как и началась. Эти молниеносные стычки происходили каждое утро, трудно было назвать их настоящей схваткой. Когда жеребец — плохо выезженный двухлеток- впервые оказался на конюшне, упрямству его не было конца. Два раза он сбрасывал госпожу Пендертон, а однажды, после ее возвращения с прогулки, солдаты увидели, что ее губы сильно разбиты, а жакет и блузка в крови.
Теперь короткая ежедневная схватка носила явно показной характер и, как шуточная пантомима, исполнялась для собственного удовольствия и развлечения зрителей. Даже когда на мундштуке показалась пена, жеребец продолжал двигаться капризно и грациозно, словно знал, что за ним наблюдают. После окончания схватки он спокойно остановился и вздохнул, как вздохнул бы, посмеиваясь и пожимая плечами, молодой муж, уступая желанию любимой капризной жены. Не считая этих показных бунтов, лошадь была теперь прекрасно выезжена.
Всем постоянным наездникам работающие в конюшне солдаты дали прозвища. Майора Лэнгдона окрестили Быком — сидя в седле, он опускал широкие тяжелые плечи и наклонял голову. Майор отлично держался в седле, а в бытность свою лейтенантом был отличным игроком в конное поло. В отличие от него капитан Пендертон как наездник никуда не годился, но не подозревал об этом. Он сидел прямо, словно шомпол, как его когда‑то учил инструктор верховой езды. Возможно, он навсегда бы оставил конный спорт, если бы когда‑нибудь смог увидеть себя сзади. Во время езды его ягодицы то разъезжались, то вяло сходились, за что солдаты и прозвали его Трясогузкой. Госпожу Пендертон называли просто Леди, столь высоко ценили ее на конюшне.
Этим утром все трое во главе с госпожой Пендертон отправились в неторопливую прогулку. Рядовой Уильямс долго глядел им вслед, пока они не скрылись наконец из виду. По стуку копыт он догадался, что всадники перешли на галоп. Солнце ярко светило ярко, небо потемнело до знойного синего цвета. В прохладном воздухе чувствовался запах прелых листьев и дыма. Солдат стоял так долго, что к нему подошел сержант и добродушно рассмеялся:
— Эй, мечтатель! Сколько можно таращиться?
Стук лошадиных копыт смолк. Молодой солдат отбросил волосы со лба и медленно принялся за работу. За весь день он не проронил ни слова.
Вечером рядовой Уильямс переоделся и отправился в лес. Он шел опушкой и вскоре достиг того места, которое расчистил для капитана Пендертона. На этот раз дом не был ярко освещен. Свет горел только в комнате на втором этаже и на веранде, рядом со столовой. Солдат подошел ближе и увидел, что капитан сидит один в кабинете; следовательно, жена капитана находилась в освещенной комнате второго этажа, за опущенной шторой. Этот дом, как и все по соседству, построили недавно, и деревья во дворе еще не успели вырасти. Капитан посадил возле стен с десяток кустов лигуструма, чтобы место не казалось слишком необжитым и пустым. Мясистые вечно–зеленые листья скрывали солдата от взгляда с улицы или из соседнего дома. Он стоял так близко от капитана, что, открыв окно, тот смог бы достать до него рукой.
Капитан Пендертон сидел за письменным столом спиной к рядовому Уильямсу. Работая, он пребывал в постоянном нервном напряжении. Помимо книг и бумаг на столе стояли графин красного стекла и термос с горячим чаем, лежала пачка сигарет. Капитан пил чай вперемежку с красным вином. Через каждые десять–пятнадцать минут он вставлял в янтарный мундштук новую сигарету. Он проработал до двух часов ночи, и все это время солдат непрерывно наблюдал за ним.
С этого дня начались удивительные времена. Каждый вечер солдат приходил из леса и наблюдал за тем, что происходило в доме капитана. На окнах столовой и гостиной висели кружевные занавески, сквозь которые он видел все, сам оставаясь невидимым. Он стоял чуть в стороне от окна, чтобы свет не падал ему в лицо. Ничего особенного в доме не происходило. Нередко хозяева уходили вечером в гости и возвращались за полночь. Как‑то они пригласили на ужин шестерых человек, но чаще проводили вечер с майором Лэнгдоном, который приходил то один, то с женой. Сидели в гостиной, пили вино, играли в карты, разговаривали. Солдат не отрываясь смотрел на жену капитана.
За это время рядовой Уильямс немало изменился. Он взял в привычку внезапно останавливаться и подолгу глядеть в пустое пространство. Убирает конюшню или седлает мула и вдруг словно впадает в транс — неподвижно замирает и порой даже не слышит, что его зовут. Сержант, заметив это, обеспокоился: такая же привычка появлялась у молодых солдат, затосковавших по дому и женщинам и замысливших дезертирство. Но когда он стал допрашивать у рядового Уильямса, тот ответил, что совершенно ни о чем не думает.
Молодой солдат говорил правду. Лицо его было сосредоточенным, но в голове не было ни определенного плана, ни вообще мыслей. Он вспоминал то, что видел ночью, когда проходил мимо освещенной передней капитанского дома. Он не думал конкретно ни о Леди, ни о ком‑либо другом, а просто замирал и как бы впадал в транс. В глубине его сознания зарождалось что‑то медленное и темное.
Четыре раза за свои двадцать лет солдат действовал по собственной воле, не испытывая давления внешних обстоятельств, и всякий раз этому предшествовало точно такое же странное состояние. В семнадцать лет, работая на хлопковой плантации, он накопил сотню долларов и купил корову, которую назвал Жемчужиной. На отцовской ферме корова была совершенно ни к чему. Торговать молоком они не могли, так как наспех устроенный хлев не прошел государственной инспекции, а молока корова давала гораздо больше, чем требовалось их небольшой семье. Зимой юноша вставал задолго до рассвета и отправлялся с фонарем в стойло. Он доил корову, прижавшись лбом к ее теплому боку, что‑то настойчиво ей шептал. Сомкнув ладони, он погружал их в ведро с пенящимся молоком и пил медленными глотками.
Вторым поступком было внезапное и буйное заявление о вере в Бога. Обычно он тихо сидел на одной из последних скамей в церкви, где его отец читал воскресные проповеди. Но как‑то вечером во время перерыва он внезапно сам поднялся на кафедру, неузнаваемо диким голосом воззвал к Господу и в конвульсиях покатился по полу. Потом целую неделю был очень слаб и никогда больше не свидетельствовал свою веру таким образом.
Третьим поступком было преступление, которое ему удалось скрыть. Четвертым — поступление на военную службу.
Каждый из четырех случаев происходил внезапно, как бы сам по себе, и все же каким‑то непонятным образом он был к нему готов. Например, перед тем как купить корову, он долго стоял, вперившись в пространство, после чего принялся расчищать пристройку к сараю, в которой хранился старый хлам. Когда он привел корову, место для нее было уже готово; однако до того момента, как он пересчитал деньги и взял в руку повод, он не знал, что ее купит. Точно так же перед поступлением на военную службу он привел в порядок все свои дела но только когда ступил на порог вербовочного бюро, смутные образы в его голове соткались в мысль, и он понял, что станет солдатом.
Почти две недели рядовой Уильямс тайком наблюдал за домом капитана и изучил его обычаи. Служанка ложилась спать в десять часов. Если госпожа Пендертон оставалась вечером дома, она поднималась около одиннадцати наверх, и вскоре свет в ее спальне гас. Капитан сидел в кабинете и занимался с половины одиннадцатого до двух часов ночи.
На двенадцатую ночь солдат шел по лесу медленнее, чем обычно, и еще издали увидел, что в доме горят все огни. В небе сверкала белая луна, освещая фигуру солдата на лужайке; ночь была холодная и серебристая. В правой руке солдат держал карманный нож, вместо неуклюжих башмаков надел легкие туфли. Из гостиной доносились голоса. Солдат подошел к окну.
— Твой ход, Моррис, — сказала Леонора Пендертон. — Выложись покрупнее.
Майор Лэнгдон и жена капитана играли в карты. Ставки были немалые, а система подсчета очень проста. Если майор выиграет все лежащие на столе фишки, он возьмет на неделю Феникса, если выиграет Леонора, она получит бутылку любимой пшеничной водки. За последний час майор выиграл почти все фишки. Пламя камина бросало красноватые отблески на его приятное лицо, каблуками он отстукивал марш. Черные волосы майора отливали сединой, аккуратно подстриженные усы были совсем седые — это ему шло. В этот вечер на нем был мундир. Широкие плечи сутулились; он выглядел спокойным, не считая тех моментов, когда бросал взгляд на жену — тогда его светлые глаза становились тревожными, умоляющими. Сидевшая напротив Леонора задумалась — она складывала под столом на пальцах четырнадцать и семь. Наконец бросила карты на стол.
— Перебор?
— Нет, дорогая, — заметил майор. — Как раз двадцать одно. Очко.
Капитан Пендертон и госпожа Лэнгдон сидели у камина. Настроение у обоих было скверное, оба нервничали и с неестественным оживлением рассуждали о садоводстве. Причин для волнения хватало. В последнее время майор утратил свою обычную веселость и беззаботность. Даже Леонора смутно ощущала некую подавленность. Одной из причин было трагическое происшествие, случившееся несколько месяцев назад. Как и сейчас, засиделись допоздна, как вдруг госпожа Лэнгдон, у которой поднялась температура, покинула гостиную и быстро направилась домой. Майор в приятном подпитии не сразу последовал за ней, как вдруг в гостиную ворвался филиппинец Анаклето, слуга Лэнгдонов, с диким воплем и таким лицом, что все, ни о чем не спрашивая, побежали за ним. Госпожу Лэнгдон нашли без сознания — она отстригла себе садовыми ножницами соски.