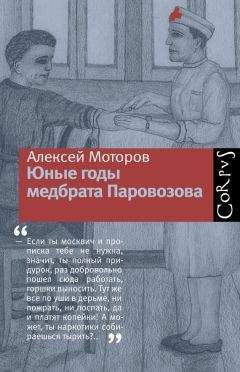Однако немец совершил ошибку: он быстро переполз за другой холмик, сменил, как того требовала инструкция, позицию. Но теперь он находился на достаточном расстоянии от машины — документам ничего не угрожало, и через секунду на том месте, где он притаился, вознесся к небу столб земли и огня — граната сделала свое дело.
Разведчики подбежали к мотоциклу. Он оказался неповрежденным, и через несколько минут они, подпрыгивая на кочках и ухабах, скрылись б лесу. Грохот приближающейся танковой колонны покрывал теперь все шумы.
Обыскали трупы курьеров, мотоцикл, забрали документы, и Монастырский в соответствии со своим планом приказал разведчику-бегуну:
— Мы свое дело сделали, теперь все зависит от тебя. Марш!
— А вы? — Разведчик стоял в нерешительности. — Один он вас не дотащит.
Действительно, третьему разведчику, хоть и мастеру спорта по мотокроссу, вряд ли удастся донести могучее тело командира до линии фронта.
Монастырскому становилось все хуже. Пот заливал лицо, боль, казалось, пронизывала все тело, словно щупальцы расползалась, грызла…
Он лежал прислонившись к дереву, без кровинки в лице.
— Приказываю срочно доставить добытый пакет. Всю дорогу бежать! Зачем я тебя брал? Бежать! За невыполнение расстрел…
Последние слова он уже еле бормотал.
Разведчик еще минуту в сомнении потоптался на месте, вопросительно посмотрел на товарища и, отчаянно махнув рукой, устремился в лес.
А оставшийся мотоциклист-кроссмен с трудом погрузил потерявшего сознание Монастырского в коляску и поехал вслед. Он ехал осторожно, чтобы раненого не слишком трясло, виляя между деревьями, тихо переваливаясь через корни и коряги. И так пока хватило бензина. А потом нес Монастырского на себе, точно так же, как тог в свое время нес другого раненого.
Разведчика, из последних сил тащившего лейтенанта, тоже встретили товарищи, помогли добраться к своим. Монастырского тут же отправили к врачам. Те внимательно осмотрели его и заявили единогласно: «Безнадежен». Тогда начальнику полевого госпиталя позвонил комдив и приказал «сделать чудо». Наверное, майор медицинской службы, до войны хирург районной больницы, был дисциплинированным подчиненным. Он «сделал чудо». И вскоре медленный санитарный поезд увозил Монастырского в далекий тыл.
— Уникальный случай, — сказал хирург, напутствуя своего пациента. — Один из миллиона. Горжусь («Сейчас скажет „вами“», — подумал Монастырский)… собой! — серьезно закончил врач и добавил: — Для вас война кончилась, но и на гражданке найдите работу полегче. Природа два раза делать подарки не любит.
Наверное, на этот раз природа все же сделала исключение: через три месяца Монастырский выписался из госпиталя, затем сумел попасть в артиллерийское училище и, пройдя ускоренный курс, догнал войну уже в Германии. Теперь он был старший лейтенант, артиллерист, кавалер шести боевых наград.
Воевать стало легче (если можно употребить это слово, говоря о войне). Легче вообще. Советская Армия наступала. Круша врага, она неудержимо двигалась вперед, на Берлин, и уже были отчетливо видны предвестники победы. Приподнятое настроение завтрашних победителей царило в войсках. И тем большую ярость вызывало уже бессмысленное, ожесточенное сопротивление врага. Исход войны был решен, и тысячи умиравших сейчас на полях сражений уже не могли ничего изменить. Но враг сопротивлялся, и люди умирали. И если легче стало воевать вообще, то на всех конкретных участках фронта по-прежнему свистели пули, рвались снаряды, летели мины.
На войне не бывает легких боев. Каждый бой труден. Идет ли столкновение фронтов или снайперская дуэль — все дело в масштабах.
Но, пожалуй, один из самых страшных — бой между танками и противотанковой артиллерией. С чем сравнить его? Когда эти пышущие жаром, грохочущие чудовища несутся на тебя, извергая огонь, нужно иметь не нервы — стальные канаты, чтобы неторопливо, но споро наводить орудие, хладнокровно выжидать, чтобы танк приблизился к заранее отмеченному рубежу, и открывать огонь. Ни секундой раньше, ибо можно промахнуться, и ни секундой позже, ибо тогда не промахнется враг, а в ту единственную секунду, которая принесет победу. Когда с воем умчится снаряд, вспыхнет огнем бронированная громада, повалит густой черный дым и, словно тараканы, вывалятся из люков и начнут разбегаться танкисты в черных комбинезонах. Или, как тараканы, сгорят внутри своей машины.
Но пока они живы, они тоже стараются не упустить секунды, упредить выстрел противотанкистов и скорее приблизиться, налететь, раздавить, превратить в месиво и сталь орудия, и землю окопа, и живую человеческую плоть.
Бой танков и противотанковой артиллерии ужасен. Всякий бой — чудовищное испытание для нервов, но этот… Монастырский ведь был мальчишкой, ему бы сидеть в институтской аудитории и заглядывать в шпаргалку, играть в волейбол где-нибудь в парке или гулять с девушкой вдоль Москвы-реки на заре. Ну что за годы, двадцать два, господи! А он, огромный и суровый, со своей бородой Черномора, будто сросся с орудием, и казалось, все пятьдесят лет прошумели над его седой головой.
Белокрестные танки выползали из леса и, казалось, медленно, неуверенно, словно нащупывая дорогу, рассеивались по полям. Они были такие маленькие и далекие… Но Монастырский отлично знал, с какой огромной скоростью мчатся они, как страшен пока лишь отдаленный грохот гусениц. Пройдут минуты, и они окажутся рядом, и можно будет заглянуть в огромный черный орудийный зрачок. А орудие качается, трясется вместе с танком на ухабах, и не сразу заметишь, как медленно вращается башня, как неумолимо нащупывает тебя черный зрачок.
— Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант! Ну пора уж, ну вот же они!
Он весь вспотел, у него глаза сейчас вылезут из орбит, губы трясутся у этого молоденького солдата — недавнее пополнение. О нет, он не отступит, не убежит, но Монастырский его понимает — сам вначале испытывал такое же, а ведь он к тому времени уже прошел фронт…
— Рано еще, чего спешишь? — говорит он нарочито спокойно, и рука его с биноклем не дрожит. — Пусть погуляют еще.
Перед дулом танкового орудия вспыхивает огонь, слышен далекий грохот, свист над головой, и где-то позади гремит взрыв. Перелет. Снова грохот, снова взрыв — теперь ближе.
Наводчики приникают к орудиям.
— Огонь! — негромко командует Монастырский.
Гремят выстрелы. Снаряды взрываются, метров двадцать не долетев до танка.
Бой начался.
И вот уже сплошной орудийный рев накрывает поля, стелется черный густой едкий дым, догорают подстреленные танки, дымится земля у искореженных противотанковых орудий. Свистят осколки.
А Монастырский все так же спокойно подает свои команды, внимательно следит за танками, словно вся эта смертельная кутерьма не имеет к нему ни малейшего отношения, словно он застрахован от этих раскаленных железных кусочков смерти, что, подобно огневым метеоритам, бороздят пространство.
В конце концов — теперь это стало обычным — уцелевшие танки отступают, поворачивают назад, улепетывают. Монастырский же подводит итоги. Танков противника подбито столько-то, потери — одно орудие. Трое убитых, четверо раненых. Среди погибших и тот молоденький солдат из недавнего пополнения. Для него первый бой оказался последним. А до победы-то рукой подать…
Над полем рассеивается последний дым, догорают пожары; усатый сержант, покуривая, неторопливо и удовлетворенно выписывает белой краской на еще не остывшем стволе орудия седьмую звезду — свидетельство о еще одном подбитом фашистском танке. Вдали стихает гул…
Старший лейтенант Монастырский вытирает вспотевшее лицо, зачерпнув из лужи, смывает сажу.
Бой окончен…
Потом Монастырский стал зенитчиком. Немцы давно уже перестали контратаковать танками. Да и самолетов их почти не было видно. Но все же воздушные налеты случались, и зенитчики бдительно стерегли небо, оберегая штаб.
…Так что, услышав вой сирены, Монастырский не удивился, хотя и не особенно встревожился.
Странно, самолетов не видно, а взрывы все оглушительней, все громче. И эта сирена — она воет все пронзительней. Да ведь это не сирена, это бомба! Звук буквально разрывает перепонки! Бомба все ближе, от нее нет спасения, сейчас она врежется в землю в метре, в двух от него, и в раскрепощении ее чудовищной силы, в огне и фонтанах земли он, Монастырский, исчезнет, растворится, перестанет существовать. Он бросается в сторону, но натыкается на стену, в другую — путь ему преграждает орудие. А вой бомбы уже невыносим. Остается три секунды до взрыва, две, одна…
С хриплым стоном он бросается на дно окопа, старается вжаться в стенку, царапает ногтями податливую землю, неимоверным бесполезным усилием закрывает лицо и… просыпается.