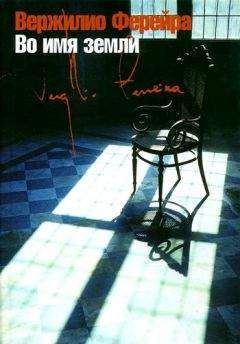— Послушай, — говорит она, — мы тут с доной Фелисидаде решили, что ты можешь здесь остаться сегодня.
— Нет! — выпалил я. — Мне нужно привести в порядок свои вещи, я должен идти домой.
— А что тебе приводить в порядок? Всем займусь я сама. И бельем, и чем скажешь. Тебе не следует попадать под дождь.
Пришлось согласиться с тем, что она права. У меня ведь нет ничего своего — что у меня свое? Свой только этот мешок костей и мяса — мое чучело, оно здесь, со мной. Однако, что же я такой неблагодарный и грубый? Тело же мое служило мне преданно всю мою жизнь, я не могу на него пожаловаться. Не могу. Оно вело себя достойно, всегда исполняло свой долг и даже мусор, на который имело право, выбрасывало аккуратно и было готово к новым услугам. Моника, моя дорогая, ты-то это знаешь. Но тут я подумал о книгах: «Марсия, я назову тебе некоторые книги, чтобы ты их принесла, и еще фотографию матери, и литографию фрески из Помпеи, которая висит над телевизором, сейчас вспомню, что еще. A-а, принеси магнитофон и кассеты».
— Принесу все. Подумай, что еще. Надо только, чтобы все здесь поместилось. К тому же нет необходимости приносить все сразу.
Марсия уже смотрела на меня, явно торопясь уйти. Дона Фелисидаде ждала ответа — мог ли я обмануться? Хорошо. Нет ничего моего — как это? но у меня нет времени жаловаться. Да, дорогая, жаловаться и говорить, что мы имеем право на то, на что не имеем — как это я не имею? Имею. Ничто не принадлежит мне, но я имею. Это — самая глубокая философия жизни, дьявол ее побери, сколько же времени я ее изучаю? Ничего нашего, Моника, нет, но люди одержимы этой манией. Глупая мания. Иметь жену, детей, друзей и все, что нас поддерживает, как эти костыли, и спасает от докуки одиночества.
— Принесу все, — говорит Марсия.
— Хорошо, — отвечаю я.
Я сажусь на кровать, я — здесь. Да, спасает от докуки бытия, именно так. Однако никто никого никогда не поддерживает, каждый поддерживает себя сам, но этого-то люди и не знают и узнают только тогда, когда никакой поддержки не находят. Все люди, вещи и идеи, дорогая, избавляются от нас, освобождаются от наших липнущих к ним рук. Пойду вымою свои. Но это сделать не так просто из-за костылей, к которым я еще не привык. Когда мне ампутировали ногу, и я пришел в себя, врач спросил меня:
— Как вы себя чувствуете?
— Я хотел бы увидеть свою ногу, доктор.
— Что за глупость. Подумайте, какая абсурдная мысль пришла вам в голову.
— Хотел бы увидеть…
Как же льет дождь. Он шел и тогда, когда я был в больнице, но я все время думал о тебе. И также чувствовал свою ногу и даже шевелил пальцами, как до ампутации, а ноги-то не было. Была только ее душа, ее сущность. Как же льет дождь. Машина у Марсии маленькая, ей не легко будет добраться домой, если зальет все улицы, а их зальет. Может, позвонят Андре или Теодоро. Может, они позвонят сестре, чтобы узнать, что и как. А могут и не позвонить, ты же знаешь, они всегда заняты поверх головы своими делами, что-нибудь просить у них бесполезно. К тому же Андре должен быть за границей, и давно: моя память не воскрешает его образ. Подхожу к окну, чтобы понять — что? Не знаю. Понять, осознать свое пребывание здесь и получить иное представление о мире — что-то в этом роде. Странно, но я не узнаю этот мир. Я проходил здесь не однажды, он был другим. Изменился я, и изменился он. Иногда, дорогая, ты переставляла мебель, и мне требовалось время, чтобы привыкнуть к изменившейся обстановке. Ведь связь, как ты знаешь, а если не знаешь, то я говорю тебе, связь существует между тремя, а не двумя субъектами. Это не только мы и что-то еще, это еще и она, сама связь. Как в разговоре. Но если я запутался, не обращай внимания. Когда люди думают и много думают, случается, они путаются в своих мыслях. Моника. Если бы ты была жива, как было бы хорошо. Нет, ты жива, подожди, живешь не только в моих мыслях, но и в твоем имени, которое я произношу мысленно. Разреши мне произнести его еще раз. Моника. Оно одновременно и ты, и имя. И звучит, как гобой. Любопытно, правда? помнишь диск, который… Твое имя. Выгнуто-полое, не знаю. Гобой. Грустный инструмент. Должно быть, у него было печальное детство. Он был сиротой без отца и матери. Но вот дождь утих. Грузовики, которые разгружали люди, уехали, рынок опустел и закрылся. В дверь постучали и тут же — я даже не успел ответить — вошли две служанки. А за ними — дона Фелисидаде все в том же темном платье. Все так же скрестив перед собой руки, она сказала, что девушки пришли убрать комнату.
— Девушки приготовят вам комнату, пока вы будете принимать ванну.
— Ванну?
Я не иду. Пока не иду. Мне необходимо еще немного побыть с тобой, прежде чем попасть в плен, подчиниться существующему здесь распорядку. Ванна. Иду, уже иду. Но иду вначале к тебе, побуду с тобой — где же я с тобой побуду? Ты везде и всюду, ты множественна, ты вся целиком состоишь из множества тебя. И каждая ты просишься на встречу со мной. Но я тебе предлагаю правила наших встреч, каждый раз я вызываю в памяти одну — которую сегодня? И люблю тебя такой, какой вспоминаю в каждый данный момент, чтобы в конце сосредоточиться на твоем теле, но позже, потом — на его памяти и твоей вечности. Однажды я о нем думал и особенно напряженно думаю о нем теперь, чтобы мысли стали реальностью. Думаю, — теперь разреши мне немного пофилософствовать, — что рассказ о человеке — это рассказ о его связи со своим телом — как тебе кажется? — или рассказ об отношении тела с вещами, что одно и то же. Вначале оно совершенно, — нет, не то. Вначале оно нечто чужое и непонятное, и человек открывает его для себя постепенно, часть за частью, изумляясь. Ноги, руки, испражнения — удивительная штука. И пи-пи и инструмент, пи-пи производящий. И звуки не всегда кстати, но совершенно законные, если связь согласована. Потом организация всех частей, одни из которых изменяются, другие увеличиваются или уменьшаются, — это так, — превращаясь в гармоническое целое. Тело. Мы разглядываем себя в нем, дорогая, полные внутреннего тщеславия. И благословляем его, как благословляет хозяин своего коня, трепля его по холке, перед тем как отправиться в путь, и отправляемся с ним в жизнь. И что любопытно, оно тут же перестает существовать. Существует только мир и мы, чтобы мир существовал. А оно, наше тело — вроде бы оконное стекло очень чистое и прозрачное. И должно пройти время, чтобы это оконное стекло треснуло и разлеталось на мелкие осколки, но пока нет. Пока есть только очевидная необходимость существовать, как существуют боги и камни, существовать до тех пор, пока их не разобьют и не замостят ими улицы. Пока есть чудо без какого-либо чуда. Пока есть вечность часов без стрелок. И мы пофилософствовали достаточно, мне пора на встречу с тобой в гимнастическом зале.
Но я не знал, что я иду на встречу с тобой до того, как тебя увидел. Только спустя время я понял, что шел на встречу с тобой, которая длится до сих пор. Меня привел — «Там всегда найдешь, в кого влюбиться, и полно красивых ножек» — меня привел Олоферн, мой коллега по факультету. Думаю, что это не его имя, мы его просто так звали, ты должна помнить. Случайно год назад я решил его навестить, он живет возле шоссе, у него какое-то мозговое нарушение. Потеря равновесия при ходьбе, он уже, должно быть, умер. Но тогда это был высокий сильный парень.
— Там есть в кого влюбиться, — сказал он.
Но подожди, я знаю, знаю почему мы его звали Олоферном.[3] Он влюбился в Жудит,[4] но совсем не мужественную, рядом с ним она казалась неприметной. Они были смешной парой: он очень высокий согнувшийся под бременем страсти и своего роста и всегда очень галантный, что характерно для великанов. И, как это обычно бывает, люди, видя столь странную пару, тут же желают восстановить равновесие, поддержав слабую сторону, и один парень возьми и скажи:
— Она как-нибудь побьет его.
Он живет на шоссе, идущем в Каскаис, и однажды я пошел к нему. О, Жоан! О, Олоферн! Увидев меня, он разволновался, встал и пошел ко мне — «Не вставай! Не вставай!» — пошел ко мне, движения его были беспорядочными, и он растянулся на полу. Лежал, одна рука и нога в одну сторону, другая рука и нога — в другую, и повторял: «О, Жоан!» Сухощавая женщина без каких-либо эмоций, — совершенно ясно, их уже не осталось — позвала служанку, крупную крепкую матрону, и мы вместе с ней подняли его и усадили на софу. Однако мы с тобой в гимнастическом зале, возможно, и навестим его еще раз, но сейчас мы здоровые, крепкие молодые люди с будущим. Позволь мне почувствовать это вновь, настоящее подождет, настоящее — это спячка, оцепенение. Да, а еще в парке — ты опять не была с нами? — он был с малышкой Жудит, и тут привяжись к нему один тип — вообще их было трое, так вот один из них стал подшучивать над ним, говоря: «Посади ее в карман, а то потеряешь, или возьми на руки, или не развращай ребенка», нечто в этом роде, прямо и косвенно адресованное его росту и мускулатуре. Тогда Олоферн… О, Моника! Их было трое, он оставил девчонку и показал им, где раки зимуют. Всех троих разбросал по клумбам парка и спокойно вместе с Жудит пошел дальше. Недавно я пошел навестить его, он живет на шоссе. Впрочем, он умер. Как и Анибал. Не знаешь? конечно знаешь. Он же за тобой тоже ухаживал. Да, такой крупный и очень сильный, сильнее, чем Олоферн. А ты знаешь, что в юности сила — разменная монета. Кроме силы, у него была навязчивая идея стать певцом, и он постоянно мучил всех окружающих демонстрацией своих голосовых данных. Потом что-то у него случилось с мочевым пузырем или чем-то еще, он ходил по дому с трубкой, а служанка за ним с уткой. Но Олоферн… Оставим Олоферна, сейчас я хочу быть с тобой. Мы вошли в гимнастический зал, вернее, два просторных зала. Эхо в них гуляет, как на Олимпе, подумал я. Пришел я все-таки, чтобы потренировать мускулы, хотя не очень это любил, гимнастика скорее для женщин, я предпочитал футбол. Олоферн занимался гантелями, какое-то время я наблюдал за тем, что происходит в зале. На разновысоких брусьях занималась какая-то девушка, ты в конце зала делала сальто-мортале. Подожди, дай вспомнить каждое твое движение. Вот ты делаешь два шага, потом обеими руками отталкиваешься от пола, взлетаешь в воздух и там, в воздухе, переворачиваешься, но прежде чем ты опустишься на ноги, я вижу, как ты зависаешь в воздухе. Тело гибкое, стройное, я не отрываю от тебя взгляда. Ты паришь в невесомости, земля над тобой не властна. Вижу тебя в пространстве, вижу твое гибкое тело, ставшее вдруг колесом — ноги и руки почти соприкасаются, а может, нет — начни снова прыжок, чтобы я рассмотрел лучше. Возможно, в воздухе тело не плоское, в воздухе оно, как колесо, и крутится до тех пор, пока ты не распрямишься и не станешь твердо на ноги. Я хотел сказать тебе, что ты меня просто потрясла, вернее потрясло твое сильное тело, отрешившееся от всего земного и своей грубой материальности, ставшее бесплотным. Хорошо сказано? Бесплотное. А сколько в нем всего: твои кости, твои внутренности, но все это как бы не существовало, и я видел только твою совершенную форму в ее полете. По орбите точности, как говорят о звездах, и ты двигалась по ней, математическая точность — необходимость существования вселенной. Потом ты повторила упражнение думаю, чтобы разогреться. Разновысокие брусья были свободны, и ты пошла к ним. Но упражнения на них мне понравились меньше, и я скажу тебе, почему. В любом случае. Вначале бег, возможно, к высокому брусу, ноги под прямым углом в разные стороны, чтобы не удариться о нижний брус. Потом — удар обеими вытянутыми ногами, как плавником акулы, по нижнему брусу. И, наконец, все тело, как единое целое, вращается вокруг высокого бруса и на какое-то время замирает в воздухе. Необыкновенно легкое, невесомое. Потом летит, как обезьяна с ветки на ветку, с высокого бруса на низкий и снова на высокий. Потом вращается и, продолжая вращаться уже в воздухе, приземляется, замерев, как вкопанное. Это мне меньше понравилось, в твоем упражнении появилась обезьяна, потом раскинутые в разные стороны ноги, когда ты меняла брусья, но все же и это привело меня в восторг. Я захлопал в ладоши, и мои аплодисменты разнесло по пространству Олимпа эхо. Однако захлопал не я, а мой двойник, не знаю, как тебе объяснить. Ладони оказались впереди, и я их не мог удержать. В мужчине, моя дорогая, всегда существуют два человека, и они сливаются в единое целое в том, который не всегда вменяем. Кстати, я ведь не знал, почему захлопал, а теперь знаю. Конечно, аплодисменты вызвала твоя ловкость, совершенство исполнения, но теперь-то я доподлинно знаю, что было кое-что еще. Я хотел сказать тебе этим, что главным было твое тело, но и этого недостаточно. Было кое-что еще — что? Моника, моя дорогая. Было… Дай подумать. A-а, возможность говорить о твоем теле, не смущаясь. Утратить реальность. Окутать тебя завесой, чтобы ничто из того, что есть ты, от меня не ускользнуло, и остаться один на один с тобой. Теперь я чувствую в себе того, кто спрашивает, а потом? Что же случилось потом? Знать бы, что случилось, — хотел бы знать. Хотел бы быть с тобой в небытии того, что случилось. Наполниться твоим присутствием. И видеть тебя, видеть тебя. Какое имеет значение то, что «случается»? Я сыт по горло тем, чем успокаивают плачущих детей. И ничего еще не случилось, пока я этого не хочу. Пока есть только — как сказать это в пределах приличия и благоразумия? — есть только твое легкое воздушное тело. Перемещение твоей земной материи. Интенсивное и недолговечное присутствие с целью получить все — в том числе и невозможное. Моника, моя дорогая, существует только один язык, чтобы говорить о теле, минуя анатомию, хотя страсть его опровергает. Но есть и другой язык, и я знаю его, потому что у меня богатое воображение. Особенно я знаю его теперь. Знаю, что для постижения сущности явлений и предметов требуется много времени. Сущность, первое, главное. Я знаю этот язык. Он говорит туманно и путано о прообразе, который я ношу в себе, чтобы продолжать сравнивать его с тем, который создаю, и до конца не знать, что из всего этого выйдет. Он говорит о твоей цельности, в которой есть нечто, о чем только догадываешься, но что с особой яркостью оно вспыхивает в момент моего полного ослепления. Ты была сильна, прозрачно ясна, что естественно для юношеской неуверенности, которая не все знает и всего боится. Я хочу, чтобы ты сделала еще несколько вращений на разновысоких брусьях. Что ты говоришь? На высоком брусе, когда ты замираешь в воздухе. Или буду с тобой и скажу тебе: вы были великолепны, а ты повернешься ко мне и спросишь себя, кто этот тип, и в наспех брошенных словах выразишь недовольство, продолжая обливаться потом. Но мне это неприятно, я предпочитаю видеть тебя спокойной, сдержанной и улыбающейся. Доставь мне удовольствие, улыбнись. В моей власти сделать тебя совершенной, я не хочу терять эту возможность. Улыбнись. У тебя прекрасные белые зубы, и эта деталь немаловажна для того, что я задумал. И мы молчим, потому что, когда известно, что должно быть сказано, нет необходимости говорить. И тут я присмотрелся получше к твоей, как я сказал, звездной гармонии. Потому что именно улыбка вызывала к жизни все остальное, а не наоборот, и, когда ты улыбалась, материальность твоя была явственней. Потом ты пошла в кабину для переодевания, а я продолжал заниматься гимнастикой и ждал тебя. Мне очень хотелось рассмотреть твое лицо получше, потому что, когда смотришь на тело, лица не видишь. Олоферн был в другом зале и продолжал выжимать штангу, чтобы доказать людям, а так же богам, что он очень сильный, будто кто-то в том сомневался. Я как-то пошел навестить его, он жил на шоссе, — «О Жоан! О Олоферн!» — взволнованный он встал, когда меня увидел.