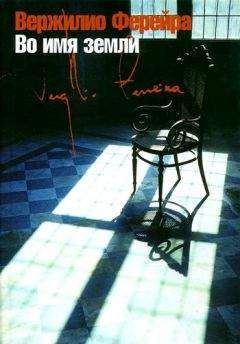— Теперь, сеньор доктор, будем принимать ванну.
— Я иду, я иду.
И мы пошли. Я — сзади, с трудом справляясь с костылями, а впереди Антония с полотенцами и бельем. Полная, с обвисшими боками — последствия тяжестей, которые из поколения в поколение таскали на себе люди ее племени. Несколько дней назад она ушла, и я пожалел, потому что не так-то просто налаживать отношения с людьми. Ты, дорогая, скажешь, что это не всегда так, зависит… Вот именно. От гордости, от глубины нашей собственной души, что все едино, когда уходишь в никуда. Марсия как-то сказала мне: «Никакой глубины нету, это твое умственное расстройство». Она замужем второй раз. Нет, третий. Не помню, и тогда я сказал ей:
— Твое самомнение не дает тебе этого понять, так выбрось его за ненужностью, как домашний мусор.
Но я не хочу спорить. Я иду за Антонией, мы идем по длинному коридору, где несчастье за дверьми по обе стороны. Иду удрученный тем, что не поспеваю за ней, а она говорит:
— Возьму-ка вас на кресло-каталку.
Но я не хотел, не хотел. На креслах-каталках возят тех, у кого не в порядке верхняя часть тела. Я не хотел. Но Антония хочет доказать мне, что возят и тех, у кого не в порядке нижняя, и торопится, как мне кажется. Я вижу перед собой ее удаляющуюся спину в форменной одежде и белый фартук, завязанный чуть выше покачивающихся бедер. Но в конце коридора она остановилась. Впереди был зал, за залом коридор и снова зал, который я увидел позже, он был большой. Тут я обратил внимание на ворох старой одежды, громоздившийся на стуле. Но Антония тронула этот ворох рукой — помнишь, так бывало в деревне: гуляя по берегу болота, иногда на поверхности воды мы видели плавающий зеленый островок, дотрагивались до него, и в воздух взлетал отделившийся кусочек зелени — лягушка. Антония тронула ворох одежды, и из него появилось лицо старушки, которая тут же стала читать Ave Maria. Голос был сиплый, старческий. Но завод скоро кончился, и лицо снова спряталось в ворохе старой темной одежды. «Ей сто два года», — сказала Антония, и на лице ее заиграла улыбка от сознания своей необычной власти. В зале сидело шестеро стариков, они ели. «Это самые древние старики», — сказала Антония. Я люблю футурологию, хочу видеть, как я буду выглядеть в будущем, и хочу пережить сейчас же то, что придется переживать позже. Их шестеро, они сидят, склонившись над большими мисками, на нас не смотрят. Этому — девяносто четыре, этому — восемьдесят семь. Антония, по своему обыкновению, желая узнать, живы ли они, трогает их, они нас не замечают. Один перепачкался в еде, она вытирает ему рот, отряхивает одежду, он на какое-то время замирает, потом опять продолжает есть, они прекрасны и чудовищны, мне нравится на них смотреть. Они трагичны и величественны, едят. Мы задерживаемся около них, они не перестают есть. Им дан приказ, который должен быть исполнен, наше присутствие их не отвлекает, они едят. Они отложили все заботы живых людей: секс, планы на будущее, власть, радость и дом, и работу, и землю, и интриги соседей, и, похоже, кладбище, с которым, конечно же, заключен контракт на определенный срок, и потому сейчас у них нет ничего, кроме еды, и они едят. Это их последняя возможность доказать, что они существуют, и они ее не упускают. Последний подходящий момент продемонстрировать свое величие, подумал я не без высокомерия. Это тела без таинства, без внутреннего мира — что же еще есть у вас внутри? Они — остов человекообразных. Антония с полотенцами на руке стоит и ждет, когда же я двинусь дальше, но я смотрю на них и философствую. Это — останки величия. Пусть маленького, пусть доступного пролетарской руке. Потому что величие, дорогая Моника, ничего не имеет общего с тем, что мы совершаем, а только с тем, что не делает из нас животных, которые обладают могучей силой, и нужна еще большая сила, чтобы их ее лишить. Они старые, дорогая. Жизнь вымучила их и высосала из их душ все, оставив только пищевод. Вот он, перед нами. И они едят. Однако я должен был идти за Антонией, она спешит и уже готова призвать меня к порядку.
Впереди еще один зал, похоже, для ручного труда. Сидящие в этом зале, должно быть, уже поели, или ждут, когда поедят другие, возможно, у них две смены. Здесь вырезали из бумаги нечто нетленное, три женщины наполняли бумажные мешки, а один мужчина, у которого был маленький стол и столярные инструменты, делал кукол — уж не для показа ли в раю? Им еще был доступен дух творчества, жизнь делала им уступки, и они их использовали, чтобы жить на общих основаниях. Я смотрел на кукол мужчины, а Антония уже тыкала пальцем в распорядок дня, чтобы поторопить меня, но я хотел смотреть. У этого мужчины был не только пищевод, но и внутренний мир. Была красота, память, творчество и робкое желание не говорить о смерти, и я стоял и смотрел. Лицо худое и старое, и редкая борода, и жалобная беззубая улыбка — все говорило об удивительной способности быть счастливым и несчастным одновременно. Подозреваю, что смерть уже тогда была у него на пороге, потому что больше я никогда его не видел. Антония говорила, что мы должны идти, а я медлил, желая посмотреть еще на таинство и творчество. Эти куколки, Моника, были творениями беспомощными, однако и боги не могут похвастаться совершенством своих созданий. Старик довольно улыбался, и тогда я задал глупый необдуманный вопрос:
— А для чего эти игрушки?
В ответ мужчина хмыкнул. Он и сам не знал, но понимал, даже будучи наивным, что только глупец мог пожелать узнать это. Потому что задавать вопрос, для чего существует искусство, может только тот, кто не знает, что такое искусство, и тут Антония топнула ногой и возмутилась, и громко сказала, что пора мне и честь знать и отстать от старика.
Ванная комната находилась в стороне от коридора, но чуть дальше, и до нее еще были комнаты и кабинеты. Дорогая, я буду купаться, ты можешь прийти. Мы никогда не мылись вместе, подожди, не знаю, не помню. Возможно потому, чтобы, с одной стороны, не опошлить таинство, а с другой — удовольствие, думаю, так, пытаюсь понять. Чтобы пользоваться телом, не унижая его, — другое не приходит в голову. Рядом с ванной стоял любопытный стул из пластика. На прикрепленной к нему металлической пластинке я прочел «Автолифт». Антония отрегулировала высоту сидения, чтобы я мог им воспользоваться. И, как только я сел, принялась раздевать меня.
— Я сам разденусь.
— У-уу, какой ворчливый.
И, не обращая внимания на мои слова, продолжала раздевать меня. Дорогая. Это же была относительно молодая женщина, и она снимала с меня вещь за вещью, как с ребенка, и это в моем-то возрасте. «Я буду мыться сам!» — крикнул я, чтобы она поверила в мою мужскую силу. А она ответила, что здесь не любят капризных мальчишек. Я голый и неизвестно почему должен терпеть стыд оттого, что голый, однако думаю, что вряд ли сам сумею одеться. Моя культя о том свидетельствует, как и все мое теперь увечное тело, которое не может за себя постоять. И тут Антония нажала на кнопку, и стул вместе со мной поднялся в воздух, завис над ванной и тут же опустился в воду. Не теряя ни секунды, она принялась меня мыть. Такого беззащитного, Моника. Такого не принадлежащего себе самому. Она мыла мне голову, тело и особенно нежно половые органы. И я подумал: «Потом сменит пеленки», — и закрыл глаза. И вроде бы вошла мать и с любовью принялась мыть мое тело, уши и еще маленькую пипку, а я сидел в старом цинковом тазу с закрытыми глазами. Антония мыла меня, а мне так хотелось плакать. Ведь она завладела мною, хотя я еще был способен мыться сам, она лишала меня самостоятельности, распоряжаясь моим телом, как бы отнимая его у меня. Особенно остро я это почувствовал, когда мне ампутировали ногу, и я попросил у врача:
— Я хотел бы увидеть свою ногу.
— Какой вздор. Вы не можете увидеть ногу, потому что она уже там, где должна быть.
Но я ее, тем не менее, увидел, правда, в ночном кошмаре и очень странно — я ее трогал. Но она была не моя. Раньше я стоял на ней и когда я ее чувствовал или ее трогал, это был я, который ее чувствовал или трогал. А теперь она была передо мной, и я чувствовал отвращение от прикосновения к ней, так как это был кусок мертвого тела, и в нем меня не было. То было волнующее таинство кусочка моего тела, уже не бывшего моим телом, а я был в своем теле, которое еще имею, и не был в кусочке, которого уже не имею. Нога, стопа, пальцы были мною, когда ходили, и я ими двигал. А теперь мое «я» оттуда ушло и находилось все целиком, безраздельно там, где находился я. Это, конечно, несколько путано, моя дорогая, но потом ты разберешься в сказанном и поймешь. Антония с осторожностью моет мою увечную ногу и с особым тщанием наиболее грязные места. Моет меня. Я хорошо себя чувствую. Я сложил с себя человеческое призвание в отношениях, планах, действиях, теперь я обнажен, и нет у меня никакой тайны и никакого права на нее: женщина моет с нежностью мои половые органы.