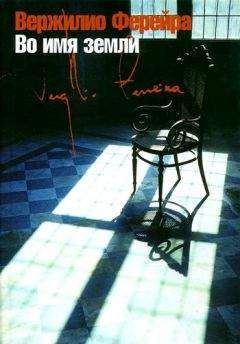И тут я неожиданно вспомнил: надо идти мыть тебя, Моника, моя дорогая, мыть, вытирать, звать Камилу, чтобы она помогла мне, а может, мое сострадание к тебе поможет мне справиться одному? Но я не иду. Пойду позже, когда призовут меня боги и спросят: «Кто тут?» Ты взлетаешь вверх на гимнастических брусьях. Вот замерла в воздухе перед тем, как сделать сальто-мортале. Вот стоишь в лесу ночью.
— Я благословляю тебя во имя земли, звезд и совершенства.
— А теперь будем вытираться, — говорит мне Антония.
Тяжкая работа. Она устраивает меня понадежнее на стуле, приводит его в движение, и я вместе со стулом поднимаюсь из воды. Мягким полотенцем Антония вытирает меня. Потом одевает, не разрешая одеваться самому. Она получает удовольствие от оказываемого мне покровительства, покровительства слабому, Моника, — это самое большое удовольствие для тех, кому приятно сознавать, что кто-то есть слабее их. Я беру костыли и ковыляю по коридору в свою комнату. Иду довольный, моя дорогая, и думаю: «Так меня готовила мать к воскресной мессе». Проходя мимо зала, где едят самые старые, я на минутку останавливаюсь — что это меня остановило? Смотрю на стол, за которым они ели. Они все там же. Синят, склонившись над столом, но не едят. Спокойны, глядят в пустую тарелку. Голова висит, они не двигаются, может, собираются молиться? Беззащитные младенцы. На их лицах вечность. Они существуют.
А вчера мне подселили одного субъекта если я назову его, ты сразу же его вспомнить. Дорогая. Но прежде я столько хочу тебе сказать. Ко мне должна прийти Марсия и принести мои вещи. Потом я получил известие от Андре — такое интересное он написал письмо! Должен прийти Теодоро, который уже был здесь со священником. Мне он, наш Тео, не понравился, уж не сердись. Он выбрал себе жизненный путь ничтоже сумняшеся, а теперь защищает его, как крепость, должно быть, из гордости, чтобы доказать, что сделал правильный выбор. Но я-то думаю, что с перепугу, поскольку выбор неправильный. Сегодня я вспоминал детство, я всегда боюсь этих воспоминаний. Потому что беды человека идут из детства, дорогая. Неудачи, затаенная злоба, мстительность, приобретенные в детстве, ждут своего часа, сопровождая нас до гробовой доски. Даже приятные воспоминания приятны только в воспоминаниях, и если их хотят оживить, то не могут, потому что лишь в воображении они и существуют. А если приятных воспоминаний нет, но их хотят иметь сейчас в порядке возмещения, то они невозможны даже и теперь, потому что их не было. То же самое — с былым очарованием, которое то ли было, то ли нет, оно, как сон, хотя рвет нам душу. Детство, дорогая, таит ужасную опасность. Несколько дней назад я собирался тебе сказать… что же я собирался тебе сказать? Ах, да. Несколько дней назад я собирался посмотреть маленькую столовую, потому что здесь есть другая, большая, не помню, говорил ли я тебе о ней. Те, которые едят в маленькой, живут в приюте только для того, чтобы иметь семью, которой уже не имеют или которой так и не будут иметь, потому что дета — ты их так и не узнала — дети, Моника, всего лишь проявление нашей слабости, стремящейся компенсировать смерть, самый дешевый способ быть вечными. Пролетарский способ быть Богом. И это противоречит тому, что я говорил раньше. Так вот, несколько дней назад я вошел в зал, о котором тебе уже говорил, вокруг, как я сказал, в креслах и креслах-каталках сидели робкие, похожие на птиц старики. Среди них — одна согбенная старушка с пледом на коленях, худющая, почти высохшая, душа еле теплится, глаза устремлены в пол, будто читают начертанную там судьбу. В какой-то момент вошла девушка, весьма непринужденная, полная энергии, которую ей еще предстояло истратить и которая так и рвалась наружу, если она себя не сдерживала. «Эта здесь появляется редко, — сказала мне дона Фелисидаде, — но бывают и хуже». Сказала с особой доверительностью, чтобы привлечь на свою сторону — сторону власти. Я был ей признателен и отплатил раздумчивыми соображениями о судьбе человека и ужасных трудностях, которые выпадают на долю тех, кто привык к комфортной жизни. А может, она сказала мне это, чтобы я почувствовал себя в несколько привилегированном положении и понял, что привилегии исходят от нее. Но так было только поначалу, пока я определялся. Потому что потом все изменилось. Дорогая Моника, это не так. Я хочу сказать не совсем так. Но об этом потом. Общество мне составляет моя память о тебе, которая вне ужаса и унижений. Да, да. Меня определенно поддерживает моя память о том, что пережито, но теперь она существует, как что-то чужое и нереальное. Все имеет свою душу, но люди над тем не задумываются. И когда вещи умирают, исчезают, а душа их остается, тогда начинают задумываться. Задумываются. Но о вещах реальных. Книги, мебель и даже дети, — не знаю, но иногда думаю, что и они для нас умирают, и страшусь этого. Потому что ребенок, конечно, существо святое. Однако святое в нем существует, как довесок, и когда оно исчезает, то остается, как правило, чучело. Мне нравилось чувствовать себя свободным от всего, человек перегружен вещами ужасно, мы даже не отдаем себе отчета, просто не понимаем. Это наши личные вещи, люди, с которыми мы общаемся, привычки нашей однообразной жизни, наконец, мысли — наша умственная поддержка. Все это занимает большую часть нашего существа. А когда приближается смерть, люди от всего этого освобождаются и приходят в ужас, что остаются один на один с собой. Так будем же готовиться к смерти и идти к ней, теряя все до тех пор, пока не будем полны только сами собой. Человек окружает себя вещами и всем остальным, чтобы заполнить свою пустоту. Бог сотворил нас с множеством прорех, и мы вынуждены заделывать их, чтобы пускаться в плавание по жизни. Ведь человек подобен пьянице, всегда опирающемуся о стену, или ребенку, делающему первые шаги. Всякое величие — это наши инвестиции в нас самих, и именно поэтому великие всегда в великом одиночестве. Марсия в своей жизни сделала ставку на материнскую любовь, я в этом ей не мешал. Тут еще была история с Камилой, которую я тебе расскажу, если ты на меня не рассердишься. Но еще была и проблема с домом, он действительно велик для меня, и я постарался помочь Марсии, у которой пятеро детей: двое от ее первого и второго брака, по одному от каждого, двое, принадлежащих ее третьему мужу, я даже не знаю его имени. И еще один, их общий. Сосчитать довольно трудно, может, я и сбился, кто от кого. Так я оставил ей все, принес с собой сюда только память о том, что является душой минувшего. Взять же я хотел только Христа, которого привез из деревни после смерти моей матери, — ты знаешь, он висел у нас в столовой над буфетом, — еще рисунок Дюрера, что был на стене в моей конторе, и цветную литографию фрески из Помпеи, где изображена богиня Флора, или Весна, которая тоже висела в конторе, — она очень походила на тебя. Это я принес сюда. Почему хотел взять Христа? Не знаю, может, узнаю позже. Падре капеллан увидел Христа и тут же стал проповедовать его учение, мы обменялись несколькими фразами. Позже, если не забуду и будет к чему, расскажу. Фигура Христа, как ты знаешь, креста не имеет, не хватает у нее и кусочка левой ноги. Мать моя приспособилась вешать его на бечевке, на бечевке он висит и теперь, но не в изголовье кровати, как предлагала мне дона Фелисидаде, когда зашла ко мне в комнату, а чуть в стороне, на освещенной части стены. Он великолепен при свете и игре теней, которые отбрасывает то, что есть в нем осязаемого, предметного, сиюминутного, — они удлиняются, придавая ему мистический оттенок и определенную печать вечности. Иногда я смотрю, нет, не на него, а на его тень и чувствую… не знаю, что и сказать тебе. Ну может, это знак бесконечности. Некая всемирная экспансия. Тень эта как бы варьирует степень величия и излучения. Да, нечто подобное было, когда мы находились в Ситио-де-Назаре, и ты сказала о доне Фаусе Роупиньо и Деве Марии, которая удержала его от падения в море. Ты широко раскинула руки, готовясь броситься в волны, и застыла недвижно. Был час захода солнца, и от твоей фигуры протянулась плотная тень, терявшаяся вдали. И я сказал тебе: «Моника! Богиня мира, моя дорогая, земли, звезд и совершенства». Мы долю смеялись. Потом сидели в тишине и смотрели на солнце и тени, рождавшиеся по мере того, как солнце умирало. Но и не поэтому я захотел взять Христа, и до сих пор не знаю почему. Впрочем, Христос, Моника, очень долгое время не был столь значительным. Значительность он приобрел после того, как был усыновлен социализмом, потом объясню, почему. А до того самое большое значение имела Дева Мария, а вовсе не он: надо подумать, знаю ли я, почему. Но Христос — социалист, нет, не поэтому, да и где сегодня найдешь для него социализм? Но о чем я? Ах, да. Я тебе говорил, что несколько дней назад к нам пришла одна блондинка, формы которой были само совершенство, и ее одежда это подчеркивала. Она — дочь костлявой старушки, очень худой, скромно сидящей на своем низком стуле и не отрывающей глаз от пола. Она сидела от двери первой, за ней по стенам зала сидели другие старики и старухи, неподвижные, ко всему безразличные, ждущие. Так вот, когда старушка поняла, что пришла ее дочь, она даже не взглянула на нее, а блондинка спросила: