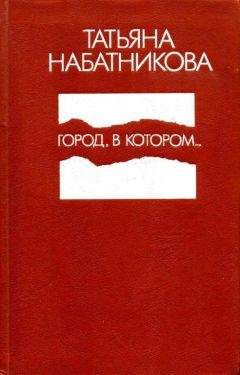«Вот пристал!» — шептала Рита, когда он наконец ушел. Но через день он опять явился, этот докучливый старикан. Я, говорит, вспомнил, ваш отец мне несколько раз упоминал фамилию того, кто его туда упек, — а я забыл. Все хожу и думаю, а вспомнить не могу. Рита уже боялась выражать приветливость — себе дороже. Она раздраженно сказала: «Ну а если бы вы даже вспомнили эту фамилию — что бы я с нею делала?» — «Не знаю…» Рита усмехнулась. Тогда он потерянно сказал: «Я вижу, и вы как все: готовы свалить все на одного человека. Дескать, всё — его рука. А это не так! За каждый отдельный случай ответствен отдельный человек. Я не поверю, что благородного человека какая бы то ни было рука заставила делать подлость. Скорее, он сам бы умер. Значит, и отвечает каждый отдельный человек…» Вот уж Рите до лампочки было, один ли виноват, несколько или все сразу. И вообще, о чем тут говорить? «Ну, а я-то при чем? Я-то что могу теперь сделать?» Он печально так на нее посмотрел: он не знал, что она может сделать, но был убежден, что все-таки что-то должна сделать — взволноваться хотя бы. А Рита считала: их время — это их время, прошедшее, а у нее свое — и оно будущее. Никакой связи она не видела. Своя-то жизнь — и та делится на серии, на блоки, ничем один с другим не связанные: кончил, жить одну жизнь, начал другую — в другом месте, в другом состоянии, с другими средствами. А неугомонный этот человек через два дня бросил в ее почтовый ящик записку: «Его фамилия Скрижалев. Я вспомнил. Извините»: Рита записку выбросила. И тогда, на День энергетика, она не знала фамилии Прокопия, и когда он улепетывал из ее жилища (Юрка был в ночную смену, но все равно мог прийти, он ведь только дублировался, Рита страшно рисковала, ведь он на банкете догадался, и подтверждение этому она получила потом еще раз, когда они переехали в новую квартиру: после новоселья они с Юркой остались наконец одни, забрались вместе в ванну, смеясь и плескаясь, и бегали вдогоняшки по квартире: из одной комнаты в другую, потом в кухню — и надо же! — никаких соседей, смейся и визжи, и Юра изловил ее в охапку, затихли, отдышиваясь, Юра с преступным замиранием позвал: «Ритка!..» Вспорхнул ее взгляд, оробел, а Юра молчком напирал на этот взгляд, испытуя его на крепость. «Смотри у меня, Ритка!» — счастливо пригрозил. Значит, что-то он имел в виду?), и вот, когда Прокопий улепетывал из ее жилища, она все еще не знала его фамилии, да и он не знал о ней ничего, кроме имени. И потом, как оказалось, совершенно занемог от этой посылочки из недостижимой страны — юности. Рита для того все это и устраивала — чтоб знал, ЧЕГО У НЕГО НЕТ! А он там совершенно обезумел по ней. Спохватился — даже адреса не знает, фамилии — настолько абсурдным казалось продолжение. Ну, разовое приключение из ряда вон, подачка судьбы, однократный подпрыг — но вот ты приземлился — что ж тебе не идется дальше спокойным шагом, чего ты снова подскакиваешь?
А надежда на безумный шанс все же пересиливает здравый смысл — и оказывается права.
Заслал в командировку верного человека: разыскать такую-то женщину с упругим именем Рита, жену незначительного вахтенного инженера, живут в двухэтажном домишке, в коммуналке. Разыскать и передать ей только одно: номер его кабинетного телефона, минующего секретаршу. А дальше — как она захочет. Задача верного человека осложнилась тем, что больше Рита, жена вахтенного инженера, не проживала в коммуналке. Она в аккурат в это время праздновала новоселье. Еще стояла в дверях разъяренная жена Семенкова и, остервенело показывая пальцем на мужа, кричала, что это он, он украл у Путилина магнитофон, и тут, конечно, взялся за дело самый решительный из всех — Горыныч, — вечно он вперед других знает, что делать, — и увел ее. А интересно, правда ли Семенков спер? А что, он мог. Тогда на Новый год (вместе встречали, Юрка еще только устроился на станцию работать, Семенков ему много помогал, и подружились), так в Новый год за столом Семенков, значит, и рассказывает: «…Это мы сидим как-то с Пашкой у проходной моторного завода, ждем Игорька. Ты помнишь Игорька? — спрашивает жену. — Впрочем, нет, ты его уже не застала. Ну, короче, сидим ждем, а из проходной вышли две девочки, остановились и что-то ищут в сумочке. Против нас как раз. Ну, мы к ним подвалили: то, се, мол, девочки, мы, говорим, инженеры. А на мне как раз белый костюм, ну, помнишь, немецкий был, ты его застала, должна помнить! Ну, тары-бары, сели в троллейбус, про Игорька че-то забыли. Пашка меня локтем: давай, мол, деньги сюда. А денег — трояк на двоих до получки. Ты че, говорю! А он: давай-давай! Ну, я дал. Приехали к этим девочкам. А у них дом небольшой такой, с балконом. Пашка и дает им трояк: вы, мол, девочки, сбегайте купите конфет, то, се, чай будем пить. А сам вышел на балкон, проследил — девочки потопали к магазину. Он тогда заходит, открывает буфет, достает серебряные ложки, сует по карманам, проигрыватель берет под мышку и — пойдем, говорит. Ты что, говорю, положи назад, ты чего делаешь! Пойдем, говорит, пойдем! Я опять, а он — пошли, и все. Ну и ушли. А ложки эти сдали аж по восемь рублей за штуку!»
Досказал — и принялся есть. Аппетит у него хороший. Сам маленький, верткий — у таких всегда хороший аппетит.
— А проигрыватель куда дели? — среди тишины спрашивает Люда Семенкова, медленно краснея. Она толстая, и реакции у нее замедленные.
— А проигрыватель побили по пьянкам. — Семенков уже потерял интерес к этой истории (он и вспомнил-то ее потому, что на столе были серебряные ложечки, он повертел-одну и сказал: «Не украсть бы!») и набил рот паштетом.
Люда докраснела до конца.
— Смотри-ка, воры! — сказала. Приходилось ей, как лисе хвостом, заметать следы мужнина рассказа. — Ну и Пашка твой! Ну и друг! Он мне всегда не нравился. Он такой подозрительный тип!
— Да, он такой, — скучая, согласился Семенков.
Рита их выручила. Не их — Люду. Она сказала как ни в чем не бывало:
— С ума сойти: всего по восемь рублей за штуку! Теперь ложка стоит в десять раз дороже.
— Да ну? — ахнул Семенков. — Восемьдесят рублей? Не может быть!
И еще в тот вечер сказал Юрке: «Это хорошо, что ты устроился на станцию в конце года. Потому что тринадцатая зарплата идет только за полностью отработанный год. Представляешь, как было бы обидно, если б устроился где-нибудь, скажем, числа 5 января? Тринадцатой зарплаты уже не было бы. Зря бы год мантулил».
Нет, точно, он спер. Магнитофон у Путилина японский. Точно он.
А вскоре после новоселья ее разыскал верный человек Прокопия, разыскал он ее в лучшем виде, комар носа не подточит. И не успел еще вернуться к своему работодателю, а Рита уже накручивала номер по междугородному телефону-автомату.
Прокопий услышал голос — ужаснулся своему счастью: «Рита!»
И потом: «Я прошу тебя приехать в Москву!» Печально так позвал, торжественно — и где только научился!
Ну, Рита немедленно взяла отпуск.
Она это с детства предчувствовала. Играли в лоскутки, в тряпочки, она вглядывалась глубоко в завораживающее повторение рисунка на обрезках шелка (для чего шелк? з а ч е м э т о?), от обрезков пахло неведомым, шелестящий крепдешин, нарядная мама с мороза, благоухают ее меха, улыбка полна взрослой тайны (зачем-то это все нужно: духи, меха, шелка?), — какие посулы, какие разгадки грядут!
И вот уже подступы к взрослому миру пройдены; и духи, и меха, уже и знаешь, п о ч е м у нельзя обойтись одним ситцем, а впереди все разворачивается из спирали закрученной путь, и неизвестно, когда же откроется ясная даль, видимая насквозь до конца? И не надо, не надо, пусть дальше влечет неизвестность.
И эта гостиница, где «за всех давно заплачено», и пока Рита по этому поводу досыта не наязвилась, Прокопий терпеливо сносил. «Охота повоевать?» А потом взял ее за плечи и повернул к себе: настала пора. Риту эта минута застала врасплох, ей пришлось увести неподготовленный свой взгляд, но она быстро поправилась и, смело подняв глаза на Прокопия, ответила ему во всю силу полагающегося чувства. Она была порядочная женщина и честно расплачивалась по счетам.
У нее там была обязанность: оповещать Прокопия обо всех своих передвижениях. У него среди дня могло появиться свободное время, и он не хотел, чтоб оно пропадало. Ему уже вообще очень мало времени осталось… Но иногда и ей выпадало: он говорил, что занят до вечера, и она свободна. И она тогда становилась свободна…
Однажды ее занесло на какой-то вернисаж. Пускали без билетов. Рита с опозданием поняла, что вернисаж — это, собственно, для приглашенных. А она затесалась. Но ничего, она слышала про одну старушку, которая жила поминками, как работой. С утра шла на городское кладбище, втиралась в похоронную толпу и ехала с ними на поминки. Пообедает и тихо исчезнет. Тем и кормилась. И кто посмеет спросить ее, звана ли кем.
В выставочном зале в углу стояли столики — конфеты, яблоки, кофе в чашечках. Каждый подходил, брал чашечку в руки и прохаживался вдоль картин, рассуждая об искусстве мастера. Рита взяла яблоко, смачно грызла.