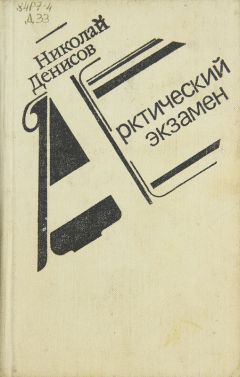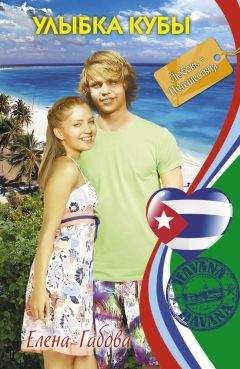К Вавилке уж на антихристову улицу не пошел. Глянул только — горн погашен в кузнице: на озере, стало быть, антихрист, сети ставит… Но! — гаркает Толя на кобылу. — Ну, вернулся, мордовороты ржут. Петя красненький месяц проходу не давал: принес походень? А у самого жилы от смеха лопаются…
Вот и Нефедовка — деревушка на двадцать дворов. От скотного двора несет силосом. За навозными кучами показалась и скрылась чья-то фигура в телогрейке… Не Галя? Нет, мужчина, на ногу припадает. Здешний управляющий. Утром гарцевал на коне. Приезжал здороваться. Воевал, сказывал Никифор.
Деревушку Витька только сейчас и сумел как следует рассмотреть. Старые почерневшие заплоты, венцы углов в трещинах, в смоляных подтеках. Прибиты жестянки с нарисованными ведрами, баграми, топорами. Это обозначено, кому и с чем бежать к месту пожара. У каждого дома двое ворот — с двух сторон.
— Зачем двое-то? — спрашивает Витька.
— Почем знаю! Наверно, чтоб легче было теку дать, если татары нагрянут.
— Все-то ты выдумываешь, Толька, — отмахивается Витька.
Толя соображает про себя, помалкивает.
На улице против Никифорова подворья рыбаки складывают невод. Сашка Лохмач, видать, несет какую-то ахинею. Яремин сверкает узкими глазами. Сердится. Суетятся Володя и Акрам. Не видать моториста и остальных, разошлись по квартирам.
— Сяй готов, пойдите, я распрягу, — встречает Шурка — конюх, озабоченно оглядывая запотевших лошадей.
— Сяй сяем, — передразнивает Толя, — а покрепше?
— Уха.
— Уха-а! Тоже родная сестра сяю.
Пока хлебали уху, обогревались, подступили ранние январские сумерки. В дом зашли Акрам с Володей. Они успели напилить с полкубометра дров из сушняка. Шурка — конюх управлялся с лошадьми. Нет только Лохмача. Не появился он и к ужину.
Толя лежит на печке. Скучно ему, нечем заняться. Попинал ногой ухваты, кинул варежкой в Володю, тот вздрогнул, уронил на пол книжку.
— Можно поосторожней.
— Ничего, я так… О чем там пишут? Почитай вслух, отчего деньги не ведутся. Ха!
— Тут не про это, Толя. Тут посерьезней вещи. Лукиан…
— Кто, кто?
— Писатель был такой во времена греко-римской империи, — серьезно объясняет Володя, — сатирик…
— Сатирик? Интересно. Ну и кого он бичует там?
— Тут не просто сатира, сложней все. Философская концепция… Показывает, в общем, нравственную несостоятельность рабовладельческой империи.
— Ишь ты! А тебе зачем знать про это?
— Каждый образованный человек обязан познакомиться с наследием прошлых…
— С наследием, — перебивает Толя. — Ты вот что — из одной чашки больше со мной не ешь. Соли набухаешь, скулы воротит. Второй раз заметил… Ладно. К слову я. Так про чё книжка-то?
— «Разговоры богов», например. «О смерти Перегрина», — читает Володя заголовки. — «Разговоры гетер», «Похвала мухе»…
— Мухе-е! — зашелся Толя в смехе. — Ты понял? Мухе! Витька, брось гармошку терзать. Мухе — похвала! Да за что ее хвалить? Давить эту тварь надо. Похвала!
Володя прикуривает от лампы папироску, ждет, пока Толя успокоится.
— Гетеры, или как их там, кто такие?
— Гетеры? Как бы популярней выразиться? — близоруко щурится Володя.
— Не надо популярно, шпарь в открытую.
— Ну, в общем, не совсем целомудренные женщины, в нашем понимании…
— В понимании!.. В моем понимании, наверно, обыкновенные б… Читай. О чем они там толкуют?
— Да вроде неудобно вслух-то, — жеманится Володя.
— Видали, ему неудобно, — Толя спрыгивает с печки, берет книжку, листает. — Так, так… так! Во! «С ума ты сошла, Филинна? Что это с тобой сделалось вчера на пирушке? Ведь Дарил пришел ко мне сегодня утром в слезах и рассказал, что он вытерпел от тебя…» Интересно! «Будто ты напилась и, выйдя на середину, стала плясать, как он тебя ни удерживал, потом целовала Ламприя, его приятеля…» Ишь ты! Ну, это пропустим, так. Ага! «…А Дафил задыхался от ревности при виде этого. И ночью ты, я полагаю, не спала с ним, а оставила его плакать одного, а сама лежала на соседнем ложе, напевая, чтобы помучить его».
Ну что я говорил? Так оно и есть… А про несостоятельность, Володя, ты верно ввернул. Лежит, понимаешь, на соседней перине баба, а он плачет. Это не-е, не по-нашему, — Толя, кажется, расстроился всерьез. Вышел на кухню, зачерпнул кружку холодной воды из чугуна, жадно выпил. Прильнул к оттаявшему окошку. Там, над лесом, поднималась луна.
— Соображал сатирик, кого обличать надо. Молодец! Философия проста, без всяких там выкрутасов: баба лежит рядом. Э-эх!
Витьке надоело слушать Толин треп, оделся, с топором вышел во двор. Белизна снега при полной уже луне ослепила. Он направился к завозне, где у стены еще утром устроил щенку что-то вроде конуры. Собачонка проголодалась, тыкалась носом в ладони. Он отнес ее в дом, попросил Акрама накормить, пока нет Никифора.
Вернулся, стал колоть напиленные Володей и Акрамом дрова. Нетолстые сухие чурки разваливались от одного удара, отлетали до самых ворот.
— Витя! — позвал чей-то голос. Он оглянулся. Звали из-за забора, с улицы. Лица было не разглядеть.
— Иди сюда, слышишь!
Витька подошел вплотную и сразу же узнал Галину.
— Это ты, Галя?
— Я, Витенька…
Сердце Витьки громко заколотилось, и, словно почувствовав его волнение, Галина неожиданно сильно и грубовато притянула его ладонями к себе, поцеловала долгим и томительным поцелуем.
— Сладко, Витенька? — отпустив его губы, она тихо засмеялась.
— Зачем ты так…
— А тебя не целовали разве девушки?
Он покачал головой.
— Сладкий мой, нецелованый, — она опять потянулась к нему. — Сколько тебе лет?
— Семнадцать недавно исполнилось.
— Семнадцать… На три года моложе меня, — Галина оглянулась, в доме напротив зажгли лампу. — Мама не спит еще, а я с дойки… Маленький мой. — Она притянула его голову, жадно целовала, до боли. — Вчера гляжу на тебя, думала сначала — девчонка сидит, ресницами мохнатыми моргает… А хорошо ты играешь на гармошке. Ты еще для меня поиграешь?
— Поиграю, Галя, приходи, — Витька почувствовал облегчение, осмелел, хотел спросить, почему она утром села в розвальни к Толе, но не решился.
Послышались шаги. Под чужими валенками поскрипывал снег. Это шел от Соломатиных к себе домой Никифор.
— Иди, Витенька, я тоже пойду.
Витька смотрел ей вслед. Щеки его горели.
3— Вставай, парень, — будит Никифор Витьку, — оболокайся поскорей, все на ногах.
В доме прохладно, подозрительно тихо. Никифор звякает в кути чугунами, чистит картошку. В головах у Витьки тепло, даже жарко. Освободил руку из-под одеяла, откинул с лица волосы, наткнулся на что-то мягкое, пушистое. Щенок. Он лежал в подушках, спал.
— Спокою всю ночь не давал, — увидев, что Витька проснулся, жалуется Никифор. — Встану — визжит, лягу — опять визжит. Наградил бог заботушкой. Вот и занес. Загинет на холоду. Собака, а душа-то живая…
— Спасибо, дедушка. — Витька торопливо натягивает ватные брюки, мотает портянки, поглядывает во двор. Там запрягают лошадей. — Спасибо… Сегодня рыбы тебе наловлю.
— Добрый ты, гляжу, парень… Только, смотри, не промахнись. Крученая она девка-то, — дед с интересом глянул из-под белесых бровей. — Вчера так и стрелила от огорода, а вскоре и ты заходишь сам не в себе. Стариковский глаз приметливый….
Никифор уходит в горницу, пригнувшись, чтоб не задеть косяк, прибирает на полу матрацы.
— Она тут каждого встречного — поперечного принимает, — говорит он оттуда. — Разбаловалась девка… Да ить что сказать! Уехать, наверно, собралась, вот и ловится теперь за мужиков…
Витька ищет шапку, обижается на старика, Что он там болтает? Он вдруг до осязаемости вспомнил вчерашнюю встречу, поцелуи Галины. А ведь правда, еще не целованный. Представлялось раньше все иначе. Как станет побойчей, не будет перед девчонками робеть и… Что будет дальше и как все может произойти, не представлял. Только знал, что научится каким-то красивым, возвышенным словам… Он вспомнил запах. Запах силоса. Руки у Галины пахли силосом. И зачем смеялась, когда поцеловала? «Ловится за мужиков». Опять пришли на ум Никифоровы слова. Зачем он так про нее?
Витька, уже собранный, торопится дожевать хлеб с салом, запивает прямо из чайника кипяченой водой. Он злится и на деда и на себя, что проспал дольше всех, а ведь сегодня ехать на озеро. День-то какой! А вдруг и на самом деле вытянут полный невод!
Он поглядывает в окно. Рыбаки укладывают в сани инструмент. Вон Шурка — конюх, запинаясь, бежит с охапкой сена, кладет в розвальни. Акрам зачем-то набрал колотых поленьев, положил рядом с неводом. Тут двери в избу распахнулись, ввалилось полбригады во главе с башлыком дядей Колей.
— Выспался, голубчик!
Дядя Коля в шубчике, подпоясанный тонким ремешком, неторопливый, степенный. По годам чуть помоложе Никифора, пободрей.