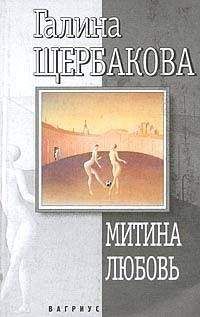Ознакомительная версия.
Вспоминаю еще случай с Митей того же времени.
Митя стоял возле уже поминаемой ржавой бочки и как-то печально баламутил воду, а я не удержалась и погладила его бессильно поникшую руку…
— Знаешь, птица, она у меня совсем мертвая, зачем я ее ношу?
— Вылечат, — тоненько пропищала я. — Под салютом всех вождей — вылечат.
— Ну разве что под салютом, — и он мокрой живой рукой прижал меня к себе, и в меня вошло его горе. Почему-то я сразу поняла: не в руке дело. И вообще не про нее речь.
Вот на основании узкой пуговичной прорези и Митиной частичной мертвости я рисую, как это могло быть.
…Однажды, проснувшись совсем в другом месте, Митя застегнул пуговичку на недвижной левой манжете и пошел к своей новой женщине — подруге-спасительнице, — чтоб она оформила ему правую манжету. Пока та вталкивала пуговичку в узковатую прорезь, Митя вздохнул и сказал:
— Надо бы съездить к Кате. — (Бабушке.) — Живые ли?
— Езжай, — сказала женщина. — Знать надо…
Она стояла и сопела близко, эта женщина, которая нашла его присыпанного и остановилась — а сколько людей прошло до нее мимо? Эта же затормозила, а потом сходила за тачкой и привезла его к себе, и раздела догола во дворе, и смыла с него шлангом человеческую и нечеловеческую грязь, а потом, уже в байковом одеяле, внесла в дом и положила прямо у порога, потому что на большее ее не хватило, внутри у нее вроде как что-то хряпнуло, и она подумала: «Это у меня произошло опущение матки».
Конечно, у Мити была жена Фаля. Она сражалась на фронте за жизнь наших раненых солдат. Что там говорить, какое может быть сравнение — жена-врач-воин и просто женщина с опущенной маткой. У Мити была бабушкина выучка в отношении к образованию вообще и к медицинскому в частности. Но вы же помните, что выбирал Митя на базаре?
В «момент пуговички» Митя, считайте, и сделал свой окончательный выбор. Поэтому следующая его фраза — «поедем вместе» — и легла в основание трагедии.
Люба — женщину звали Люба — поняла, что значат эти слова. То, что он у нее год как живет, значения не имело и не играло. Многие жили не там и не с тем, с кем положено. Это свойство войны — перебуровить все к чертовой матери, чтоб потом долгие годы метаться и искать, искать и метаться. А потом этим гордиться. Мы по гордости — первые на земле. Я помечу это место и вернусь к нему потом. Надо будет написать негордую статью о гордости. Как, например, Емелька Пугачев гулял со своим воинством по просторам родины чудесной, столько народу перемолотил, но нам тогда позарез надо было тешить гордость и чего-то оттяпать у турок. Кровь лилась из сотен дырок, и изнутри, и снаружи. Опять же Чечня… Шахтеры голодают, пенсионеры ходят в кастрюлях на голове, но мы ведь еще не все чеченские дома разбомбили, чтоб было потом чем гордиться.
Что-то меня заносит в сторону, а не надо. Надо переступить через кровь. Надо возвращаться к месту и действию.
Дом Мити и Фали в Ростове был разбомблен, хотя именно их квартира пострадала меньше других. Но Митя, оставаясь у Любы, упирал именно на то, что дом разбомблен, а то, что квартира цела, он как бы опускал. Пусть там кто-то живет, пусть. Такое время, когда человек яко наг, яко благ, а у него ведь и крыша, и Люба. Что он, алчный какой-нибудь, чтоб хватать и хватать?
Кстати, так все и было. Люди захватили Митину квартиру, но не те, у которых ничего не было, а совсем другие. И поездка к нам на самом деле была вторым Фалиным делом, а первым было освобождение захваченной территории, что Фаля и сделала вполне профессионально. Война, она все-таки закаляет характер.
Но опять вернемся к «моменту пуговички». Люба как раз это сделала, всунула ее в дырочку, а Митя сказал «поедем вместе», что было равносильно «давай поженимся», иначе чего это ради тащить ее к родне? Надо сказать, что у Любы были правильные понятия, и она спросила Митю, не стыдно ли это при существовании жены. Видимо, конечно, не этими словами сказала Люба, а как-то иначе, но важна суть. Мысль Любы о Фале. И Митя, добрая душа, возьми и ляпни:
— Чует мое сердце — погибла она, — сказал он. — Ну ни одной же строчечки за всю войну, а мы ведь уже Киев обратно взяли, из двадцати четырех орудий салют был. Не из двенадцати. Столица ведь…
Митя и потом много говорил про взятие Киева, сидит-сидит, а потом ни с того ни с сего… Что-то его беспокоило, саднило в этом вопросе, я теперь думаю, это пошло с того момента, когда он осознал, что — Господи, прости!
— он как бы бессознательно хочет, чтоб Фали не было, а была Люба, не вообще, а в его жизни, но мысль эта подлая не давала покоя совести, и на язык выползал Киев как сигнал этой самой едучей совести.
Они с Любой сели в рабочий поезд — существовали тогда такие местные поездочки, что, коптя и чадя, бегали между городками и деревеньками, выполняя воистину рабочую миссию коммуникации.
И вот они уже идут по нашей улице, как шерочка с машерочкой, а бабушка стоит возле калитки, глаза под козырьком ладони, стоит и думает: что это за чужая пара прется со стороны станции в нашем направлении? Ну, вчера к нам приехала Фаля, это понятно, а к кому же эти двое?
Потом бабушка говорила, что она Митю узнала сразу, но вырвала с корнем эту мысль, потому как Фаля вчера рассказала про расстрел и сегодня лежала на диване, укрытая пуховым платком, и только-только как задремала. Этот ведь шел с бабой.
Пара неуклонно приближалась, и уже не было сомнения, что это был Митя, и бабушке бы криком закричать и кинуться к любимому брату — мало ли кто к нему в дороге притулился, может, Митя просто подносит женщине чемоданчик, как человек отзывчивый, — но бабушка потом сказала:
— Я чула… Чула…
В смысле — чувствовала.
— Катя! — первым тонко вскрикнул Митя уже считай у калитки, на что бабушка как бы не в лад ответила:
— Тише! Фаля отдыхает.
Бабушка одним махом перечеркнула войну, взятие Киева и форсирование Днепра, тик Фали и долгое отсутствие Мити и его поникшую руку. Она, как отважный радист, соединила траченные жизнью концы, ну и что ты теперь будешь делать, женщина, если ты не случайная попутчица, а приехала с Митей и со своим смыслом?
В это время Фаля подскочила к окошку, потому как услышала тонкий Митин голос, и, конечно, во-первых, во-вторых и в-третьих увидела Любу. И она видела, как бабушка взяла в свои руки всю ситуацию, а в зубы концы проводов. Все-таки, что ни говори, война учила быть генералами, и некоторые считали возможным и правильным жертв не считать, хотя другие — немногие — предпочитали спасать людей ценой обмана, хитрости, да мало ли чего.
Спасать или погубить — это не гносеологический вопрос для нашего народа, твердо знающего ответ: надо погубить. Поэтому ход мысли бабушки и ее поступок были исторически безупречны.
Она увела Любу с ее котомочкой к своей знакомой через три дома, которая была ей обязана. В свое время, в тот самый не к ночи помянутый тридцать седьмой, бабушка прятала ее сына, когда в очередной раз решался вопрос погубления. Бабушка продержала парня в погребе две недели, а потом ночью вывезла его на бричке, как мусор, набросав сверху живого тела какие-то банки и тряпки.
— Иди к жене! — громко сказала бабушка Мите, продолжая держать во рту концы искрящихся проводов. — Иди, она с ума сойдет от радости.
Услышав это, Фаля прыгнула на диван и зажмурила глаза, готовясь к изображению радостного сумасшествия, а Любу как под конвоем отвели к Митрофановне.
— А до тэбэ гости! — закричала ей бабушка на всю улицу. — Шукают тэбэ.
— Это чтоб всем-всем-всем объяснить явление чужого человека.
Ведь еще война, еще половина народа потеряна, кто ж не поверит, что кто-то кого-то ищет и, случается, находит.
— Я потом приду, — сказала она Любе, у которой от ужаса и стыда снова схватило в животе, она согнулась прямо до земли, до самых пахучих цветочков Митрофановны.
В нашем же доме были крики радости и удивления, и Митя плакал горючими слезами, увидев, как током бьется Фалина щека и как в ехидном уголке рта взбивается пенкой слюна.
Фаля не призналась, что видела в окне женщину, остальные не признались тем более.
Так как именно я толклась в центре событий, мне было повторено особо: женщина — Митина попутчица, она племянница Митрофановны. Беженка.
Мите и Фале было постелено на большой кровати, на которой после смерти дедушки никто не спал. Бабушка тогда сразу ушла на деревянный топчан в кухню, мои родители хотели было занять главное и лучшее место в доме, но бабушка их окоротила.
Завязался конфликт между бабушкой и мамой, и уже теперь я думаю: а с чего это она, бабушка, так упиралась? Зачем ей надо было сохранять парадную кровать под белым марселевым одеялом и с пышными подушками, укрытыми тюлевой накидкой? Что в этом было? И чего в этом не было? Я не знаю ответа. Но было как было: для Мити и Фали одеяло было сдернуто.
Очень пригодилась для вязи отношений в первый момент Митина бесполезная рука. Вокруг нее очень хорошо клубился разговор, и в какой-то момент у Мити от всеобщего к нему сочувствия, видимо, с души спало. Выйдя покурить на крыльцо, он с глубоким чувством сказал мне:
Ознакомительная версия.