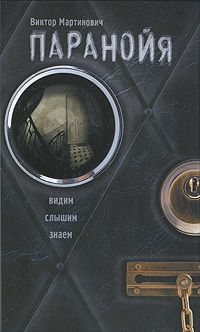Ты уже разорвала два пакетика сахара, когда я прошел мимо величественного входа в Конституционный суд МГБ. Ты уже всыпала их содержимое в высокий, стройный бокал, к которому тебе выдали длинную, как цапля, ложку. Ты хорошо подготовилась и ждала меня, смятенного, влекомого невнятным ожиданием тебя, как зритель в театре, — устроившись поудобней и обратившись в зрение. Я привычно отметил вывеску кафе «Шахматы», огромные окна, сквозь которые виден решенный в черном и белом интерьер; официанты в старомодных одеждах, вызывающих в памяти даже не саму набоковскую «Защиту Лужина», но ее голливудскую экранизацию, с героями в репинских одеждах; посетители, действительно играющие в глубине зала, под приглушенным светом, в Шахматы; ты, несколько подчеркнуто одетых девушек, смеющихся над чем–то из стоящего перед ними лимонного цвета ноутбука, пара стареющих лысых джентльменов, явно придумывающих повод смеяться рядом с девушками и чувствующих, что девушки смеются — для них, но нет — ты! Ты! Я когда… Я увидел… Ты смотрела вот прямо на меня сквозь это стекло, просто и чуть иронично, мол, — ты где так долго петлял? Мои поиски закончились, да, да, я искал вот этих глаз.
Я не буду говорить ничего о твоей красоте, я клянусь — я вряд ли даже запомнил, во что ты была одета, — кажется, что–то темное, подчеркивающее силуэт, шею, длинные кисти рук, но все это нужно было лишь для одного — оттенить этот простой и человечный, этот смеющийся, кажется, надо мной, взгляд; взгляд, остававшийся совершенно строгим, пуританским и серьезным для любого другого человека; взгляд, который, тем не менее, ясно говорил мне все, — ты проводила этим взглядом все мои взгляды и, когда я остановился на тебе, просто заглянула в самую мою душу, в те фиолетовые глубины, о существовании которых я и не подозревал. Но мало того, что ты глянула туда вот так — из–под насмешливых бровей, — еще более темных от того, что волосы у тебя были светлыми, — ты поселилась там. Не отводя взгляда, ты поднесла к лицу бокал с охристо–белой слоистой жидкостью (латте макиато) и сделала глоток, и слои смешались, образовав вихрь, — метафора того, что происходило сейчас у меня в душе, а я стоял прямо напротив тебя — в метре? двух? — прямо у стекла, и смотрел на тебя так, как если бы ты была фотографией, а брови твои взлетели вверх, кажется, отчитывая меня за эту мою прямоту. Кажется, ты говорила мне: дурак, ну нельзя так пялиться, ну что ж ты делаешь, я — стесняюсь, а губы были скрыты охристой мутью из длинного бокала, но мне кажется, ты улыбалась, улыбалась за ней, улыбалась мне. Я знал, что я — человек, живое существо, никакой не манекен, и в этом городе есть ты — чувствующая так же, как и я, и глядящая вот сюда, в сердце, и улица сзади тронулась уходящим поездом и, набирая скорость, унеслась в Монте–Карло, Лас–Вегас, Сиракузы, Нью–Йорк. Никого не было вокруг нас — только я и твои глаза и куча каких–то статистов, которые, проходя, задевали мои плечи, но не могли задеть моего взгляда, не замечавшего уже стекла. Да, я готов был, кажется, шагнуть, шагнуть прямо к тебе — напрямую через эту хрупкую прозрачную стену (я знал, что это стекло — тоньше стенки того аквариума, что отделяет меня от любой из тех, с кем я раздевался и одевался до этого), да и шагнул бы, но вдруг по твоему лицу пробежало землетрясение, ты скосила глаза на столик. А там лежал сотовый телефон — обычный, пожалуй — как будто подчеркнуто обычный, неприятный тебе, а потому — не выделенный никак и ничем, просто телефон, средство связи с кем–то. И вот этот телефон ходил по столу перевернувшимся на спину жуком — кто–то звонил тебе, кто–то, способный проделывать с твоим лицом такое. И ты сняла трубку, и я лишился твоих глаз, ты отвернулась и — вот так! Ты прикрыла свой профиль лодочкой ладони, скрывая от меня движение губ, и конец близился — ты резко встала и быстро — не глядя на меня! — пошла к выходу, а выход был рядом, в двух шагах, невозможно было пройти к нему, не встретившись взглядами, но ты отвернулась, и я уже смотрел на твои плечи под плащом, собранные на затылке волосы, а ты быстрым шагом пошла прочь от меня, держа телефон — все еще раскрытый, но уже безжизненный — в своей ладони. Да кто же позвонил тебе! Что же случилось!
И ты успела сделать лишь пять шагов, потому что дальше, на шестом шаге, стоял припаркованный с нарушением правил, прямо на тротуаре, джип — огромный Lexus RX 470, металл которого был белоснежен, как. твое лицо; он свирепо взвыл сиреной сигнализации, и ты обошла его слева — ты шла на водительское место! Ты намеревалась управлять этой чудовищной машиной, но это… Но как это может быть, это ведь ты — только что смотревшая на меня тем взглядом, который я искал, и ноги сами понесли меня к этому гиганту, и я успел сделать один, два, три шага и остановился, потому что белое лицо этого Lexusa было закрыто черными очками стекол. Твоя машина была в черных очках, а это нельзя, нельзя! Сними же черные очки, не надо их! Но ты уже вставила ключ в зажигание, и, рокотнув самолетным двигателем, исполин завелся, и ожили фары, и из салона тотчас же донесся гулкий, дикий рэп, звучащий как будто из–под земли, как будто там, в Лос–Анджелесе, устроили мегапати и врубили звук так, что грохот прошел через земную твердь и вылез здесь. Ты резко выкрутила колеса и, взревев булькающим, звериным рыком, рванула с тротуара, спугнув из–под колес пригревшуюся там бабушку. И, когда ты уже разогналась до скорости, за которую в этом городе забирают права, когда нагло рыкнула сиреной — не автомобильным клаксоном, а именно спецсиреной — на машину, пытавшуюся проехать по главной дороге, я осознал. Осознал то, что глаза увидели, еще когда ты только шла к своему водительскому месту. Да, да. Номер 2165 КЕ–7. Маркировка «КЕ» означает лишь одно. Этот номер и эта машина принадлежат Министерству государственной безопасности. И только так. На самом деле это же, увы, доказывается тем, как ты была припаркована, тем, как ты ездишь, тем, что на белоснежном лице твоей машины — эти ужасные черные очки. Кто ты? Кто? Почему ты — с ними? Как тебе досталась эта машина? Зачем ты ее водишь, неужели ты не знаешь, что это — стыдно? У тебя ведь такое лицо, такие глаза и такие кисти рук!
Я брел домой, я все для себя понял. Конечно. Она — дочь какого–нибудь гэбэшного генерала. Ненавидит папочку–душегуба всей душой, ну что ж поделаешь — она–то не виновата в том, что творит отец. Но почему ты ушла так стремительно после того звонка? Почему не махнула мне ресницами на прощание? Я обидел тебя чем–то? Я чересчур таращился на тебя? Или дело в том звонке? Я говорил с ней, говорил, расхаживая по кухне, и помочь мне мог только Дэн. Конечно, Дэн сейчас мне поможет с ее телефоном, я ей позвоню — завтра — девушке нельзя звонить так поздно, а Дэну — можно (Дэн вообще, кажется, не спит). Я ей позвоню и скажу «спасибо» за взгляд, мы с ней подружимся, и она отречется от отца, а тот опомнится, уйдет в отставку и будет поливать из шланга помидоры на даче, а мы будем наступать на шланг и смеяться над ним, а он будет нам говорить, что же вы над стариком издеваетесь?
Дэн — свой человек, оказавшийся среди их информации. Собственно, он и не гэбэшник вовсе, он — гений visual, рекламщик от Бога. Они вычислили его по «фотожабам», которые он вывешивал в Интернете, громя не МГБ даже, а чужую рекламу. Он превратил плакат «Лада. На всех дорогах страны» в карикатуру на «Ладу» с помощью всего одной буквы — буквы «н». Его слоган, проваливший рекламную кампанию «Лады» в регионе, звучал так: «На всех дорогах странны». Визуальный ряд — гордость российского автопрома, ковыряющаяся колесами в разбухшей глине проселка, — Дэн оставил неизменным. Собственно, когда МГБ оценило его креативный потенциал и в достаточной степени разочаровалось в изобретательских способностях местных креаторов, оно состряпало уголовное дело об изнасиловании Дэном малолетней прямо на ступенях школы, в которой она училась, экстрадировало Дэна из Швейцарии, где он зарабатывал себе на жизнь программированием в области химических исследований, и предложило ему выбор. Либо добросовестно отсидеть десять лет, причем — скорее не отсидеть, а отстоять — после того, что на зоне делают с людьми, насилующими малолетних, сидеть очень сложно, либо встать на путь исправления и вплотную заняться имиджем МГБ. Так, во всяком случае, звучит его версия. Именно мышке Дэна принадлежит плакат, преломивший отношение к гэбэшникам в обществе от презрительного страха к страху уважительному. До того все попытки МГБ представить себя в виде наглядной агитации выливались в фотографию злобного врага (врагом был один из гэбэшников — найти достаточно вражескую рожу среди мирного населения не представлялось возможным) и двумя улыбающимися типами в кожанках рядом. Типы выламывали врагу руки, врагу было больно. И слоган вроде: «Враги не пройдут. В МГБ службу несут». Единственный вывод, следовавший из этой рекламы, — два братка словили третьего и сейчас будут из него раскаленным утюгом доставать, где спрятал общак.