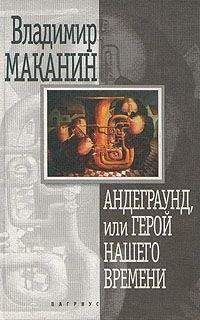Кураж при мне, но он мало-помалу тает, и мое «я» (самолет, теряющий в воздухе горючее) требует, чтобы я действовал уже напрямую. Иду к ее дверям. Фельдшерица Татьяна Савельевна должна же понять. Рука разбивает тишину: стучу решительнее и громче. Теперь фельдшерица не может меня не услышать. «Кто там?.. Мы спи-ииим!» — Ее сонный голос, а еще больше усталая интонация и приглушенное, постельное «мы» все объясняют. Можно возвращаться в теплое кресло, к Хайдеггеру.
Ага: слышу звук медленно открываемой двери. Фельдшерица сонна, в халатике, стоит в дверях в полутьме. «Дома он...» — сообщает шепотом Татьяна Савельевна. Она едва разлепляет сонные губы. (Старается сделать примиренческую улыбку.) Глаза вовсе не разлепляет.
— Понял, — говорю. Слышу смиряющееся с неохотой сердце.
Молчим. Татьяна Савельевна вяло переступила с ноги на ногу, и с этим движением квартирный дух бросает мне напоследок запах прикрытого наспех халатом ее тела.
Неожиданно из глубины коридора, шагах в тридцати, прозвучал отдаленный чей-то крик. Или стон? Конечно, когда ночь и возбужден, возможно преувеличение, и почему-то всегда услышится либо боль, либо вскрик страсти. (Подумалось вскользь: именно этого крика столько лет ждал бегающий по этажам Курнеев.)
Мы переглянулись, фельдшерица спросила:
— Что это там?
Я пожал плечами — не знаю.
Еще постояли. Тишина.
— Дома он, — повторила фельдшерица, имея в виду шофера.
Я махнул ей рукой. Ясно.
Она уже прикрывала дверь. А я уже шел мимо дверей дальше, коридор продолжается, что ж огорчаться!.. Сам коридорный образ, нечаянно возникший сегодня, разрастался теперь до правила, чуть ли не до всеобщего земного распорядка. Все, мол, мужчины мира, и я не исключение, словно бы потерялись в этих коридорах, забегались, заплутали, не в силах найти женщину раз и навсегда. Коридоры обступают, коридоры там и тут. Словно бы тебе перекинули «чижик» в давней игре отцов и дедов, обычный двуострый «чижик» — давай, брат, поиграй и ты! — поиграй, побегай, стуча пятками, в этих коридорах длиной во много столетий. А к игре и шутка: не бойся, что коридор кончится — ты кончишься раньше.
Что бы там мужчина ни говорил, он живет случайным опытом, подсунутым ему еще в юности. Мужчина, увы, не приобретает. Мужчина донашивает образ. В игре своя двойственность и своя коридорная похожесть — все двери похожи извне. И все ему не так, бедному. Жены, как водится, тускнеют, бытовеют и разочаровывают. Любовницы лгут. Старухи напоминают костлявую. Детей на поверку тоже нет, дети гибнут, теряясь на вокзалах и попадая в руки вагонных попрошаек, или же попросту взрослея, чужея и отторгаясь — они в пестрой массе, в массовке — а мужчина сам по себе и тем сильнее сам понимает, что он-то никак не меняется в продолжающемся волчьем поиске. Чижик-пыжик. Мужчина, что делать, идет и идет по ночному коридору, посматривая на номера квартир, на цифры, с тусклым латунным блеском — на обманчивую запертость дверей. На что еще, спрашивается, мы годны, если нет войн? Мужчина редко бывает доволен. Двери как двери, а он нервничает — он ярится. Он весь как бельмо слепого, налитое злобой и решимостью прозреть. Он никак не хочет поверить, что, если постучит, нажмет звонок, толкнется плечом или даже сгоряча ударит в дверь ногой, в ответ ему раздастся: «Мы спи-ииим!» Он не смеет, не хочет принять как факт, что мир упрощен и что другой двери для него нет — ее просто не существует. Ее нет среди всех этих дверных проемов, и нет ее номера среди тускло-латунных цифр.
Правду сказать, и коридор долог, есть еще дальние во времени повороты, и пятьдесят, и шестьдесят лет — еще не сто.
Крик повторился, с тянущимся по коридору эхом — на этот раз я услышал в нем уже поменьше страсти (и побольше боли). Услышал даже отчаяние. И все же это был тот самый крик...
На отчаяние я и прибавил шагу — я устремился, это точнее. Коридор с его поворотами и дверьми обещал в этом крике что-то и мне. (Обещал. Замечательная ночная мысль, не покидающая мужчину.) Притом что слуховой памятью, уже умело отделившейся от сиюминутного порыва, я почти узнал крик, узнал этот стон и готов был минутой позже сам над собой подсмеяться, но... минута ночью долга. Да и мужчина ночью предпочитает сколько можно быть глух.
— Н-ны. Ой-ооой! — В коридорной глубине вновь прошел эхом безыскусный страстный стон, из тех, какие доводится слышать лишь в самые юные годы.
В висках стук, в ушах заложило (давление), но я шел и шел вперед, едва ли не летел, касаясь моими битыми ботинками коридорного тертого пола. Притом что уже знал, угадал... старики Сычевы... увы... всего лишь!
Это они, Сычевы, так болели. Стоны старых похожи на страсть совсем юных, с тем же оттенком отчаяния.
Я наконец засмеялся, сбавив шаг. Постучал — и толкнул дверь. Было известно, что старики Сычевы вечно воюют меж собой, ворчат, вопят, а дверь, как правило, не запирают, ожидая чьей-либо подмоги. В нос ударил вонюченький уют квартиры, пахучие изжитые кв метры. Плюс свежий запах лекарств. Оба страдали сильнейшим радикулитом. Бывали такие боли, что и не встать. Запоминались им эти ночи вдвоем!
Спаренность стариков вдруг объяснила мне оттенок страсти, вкравшийся в мою слуховую ошибку: болели двое — он и она.
— ... Хоть кто-то человек! Хоть кто-то, мать вашу! Хоть один шел мимо! — ворчал, чуть ли не рычал старик Сычев. — Когда не надо, они топают как стадо. Бегут, понимаешь! А тут ни души...
— Грелку? — спросил я.
— Да, да, и поскорей, поскорей, Петрович! — старик закряхтел.
Старуха Сычиха лишь чуть постанывала. Скромней его, терпеливей.
— Скорей же! — ныл старик.
Я прошел на их кухоньку. Грелки были на виду — его и ее. Старухе и грелка досталась выношенная, потертая, небось, течет, надо завернуть в полотенце. (Поискал глазами полотенце на стене.) Сыч всю жизнь на автозаводском конвейере, ему семьдесят, согбенный, у него руки — и стало быть (я думал), грелку ему под шею, меж лопатками. А старуха, конечно, с поясницей. Потому и стеснительная, что грелку под зад чужая рука подсунет. Под копчик.
— Что долго возишься?! — ворчал Сыч, уже сильно прибавив в стонах.
— Воду грею.
— Ведро, что ли, поставил на огонь?
— Ведро не ведро, а на двоих поставил.
— Да ей не обязательно. Она придуривается. Не хочет за мной ходить!
Старуха заплакала:
— И не совестно, а?.. Стыдоба. Ой, стыдоба, Петрович.
На столе тарелки, объедки, хлеб, — старуха, видно, из последних сил покормила ужином и свалилась. Сыч, поев, тоже слег и начал стонать. Его сваливало разом. Но кто-то из них искал лекарство? (Перебиваемый медикаментами, в моих ноздрях все еще плыл пряный запах сонной и томной фельдшерицы.)
Когда я спросил, не вызвать ли «скорую», старики оба завопили — нет-нет, одного увезут, а второй? а квартира?.. Нет, нет, Петрович. Они хотят болеть вместе и помереть вместе. Вместе — и точка. Семья, распадающаяся со времен Гомера.
Я уже пожалел, что вошел к ним. Встал бы Сыч сам! — недолюбливал я Сычевых, особенно его. Но было как-то неловко, поддавшись на невнятный эротический зов, не откликнуться на внятный человеческий. И ведь как молодо стонали. Как чувственно. Подманивали болью, подделываясь под страсть.
— Скоро, что ль?.. Петрович?!
— Заткнись.
Старик Сычев, делать не фига, собирал глиняные игрушки — они и стояли, как бы по делу собравшись, на стареньком комоде. Как на взгорье, рядком, — бабы с расставленными руками, медведи с расставленными лапами. Аляповатые. Схожие. Издали один к одному. Конвейер и здесь не отпускал душу старика: хотелось однообразия. Старый монстр, казалось, и жену бранил за то, что ее чувство жизни не состояло в чувстве ровно отстукивающего времени.
Ее вина перед ним была велика: она женщина, и она постарела. Не из глины, и потому он мог ворчать, попрекать, чуть ли не из дому гнать, так сильно и по всем статьям она проиграла ему в затяжной, в вечной войне с мужчиной. Зато у нее оставалось последнее преимущество: она женщина, и она проживет на два десятка лет дольше. Он все время ей об этом напоминал. Она тотчас краснела, смущалась. (Она своего будущего долголетия стыдилась.) Он шлялся по рынкам, собирал игрушки, а то и попивал пивко, сидя за домино во дворе, и до самого момента его возвращения домой она не отходила от плиты, от стряпни. Сычев возвращался и все сжирал, грубые, большие куски, огромная тарелка — ел без разбору.
Когда я пристраивал ему грелку меж костлявых лопаток, Сыч покрикивал и на меня — еще, еще подпихни малость!.. Кряхтел. Старушка Сычиха (сейчас подойду к ней) в ожидании вся извелась, стоны стали тонкие, как у мышки. Мучил стыд, мучил возраст. И было еще смущение: как это она ляжет на проливающуюся грелку.
— Обернул ли в полотенце, Петрович?
— Обернул.
Едва я направился к дверям, он и она начали перекрикиваться — должен ли я гасить свет? или оставить?!