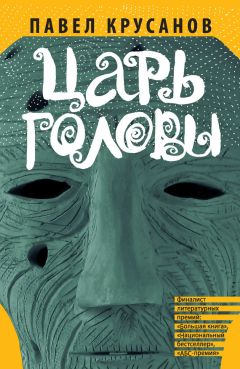На первом этаже за дверью раздавались странные скребуще-чавкающие звуки, природу которых определить на слух мне не удалось. Возможно, по этой причине я сразу отправился к деревянной лестнице, ведущей, как я понял, наверх, в хозяйство мастера художественных плетений.
После дневного освещения пролет лестницы казался беспросветным – ни окон, ни лампочки здесь предусмотрено не было. Я попробовал подсветить путь экраном мобильника, но эффект получился обратный – яркое изумрудное пятнышко лишь сгустило окружающий сумрак. Глаз тем не менее вскоре пообвык, так что путь на второй этаж обошелся без приключений, что в условиях повышенного травматического риска на нашей поляне выглядело ободряюще.
Дверь наверху – обычная деревянная дверь, покрытая в незапамятные времена коричневой половой краской, – была приотворена, из чего следовало, что, раз нужды запираться гобеленщик не видел, посторонние сюда ходили нечасто. В целом эта часть дома изнутри представляла собой разительный контраст с офисными палатами
“Лемминкяйнена” и, по существу, куда большекореннее увязывалась с внешним обликом древнего строения. Здесь чувствовалось фундаментальное сродство, бесхитростное единство формы и нутра, убитое в гнездилище Капитана жидкими обоями и подвесными потолками.
Я постучал и, не дожидаясь ответа, заглянул за дверь.
Обычно в незнакомом помещении взгляд первым делом ищет человека и лишь потом оценивает интерьер. Здесь было не так. Посередине мастерской на ко2злах лежала огромная деревянная рама с натянутой ворсистой основой, в которой уже завелась и дала уверенные всходы черно-зелено-серая шпалера. Под нее был подложен порядочный картон с эскизом, изображавшим неопределенного вида цветок. Вначале я заметил именно эту раму и только следом – хозяина, прислонившегося плечом к простенку между окнами и помешивающего что-то в керамической кружке звонкой ложечкой. Статичность позы, вероятно, и стала причиной того, что гобеленщик перешел в объекты второго ряда.
Мастеру узелков на вид было лет двадцать пять – тридцать; он был худощав, хорошо сложен, небрежно, но, как заведено у художников, с претензией одет (старые зеленые джинсы, серая льняная косоворотка, стоптанные, мягкой кожи мокасины, расшитая бисером шапочка-таблетка) и прятал глаза за черными стеклами круглых очков. Последнее выглядело странно, если предположить, что здесь он работал.
Впрочем, оригинальность методаприема для художников, бывает, сто2ит намного выше результата. Подчас они со всем цинизмом прямо так и заявляют: вот, гляди какой кунштюк, любуйся моим приемом – именно им, а не самим произведением.
– Бог в помощь! – сказал я как можно приветливей. – Простите за вторжение.
Гобеленщик не отреагировал – не отставил кружку, не предложил хлеб-соль, не отвесил земной поклон. То есть взгляд его, возможно, бессмысленно кружил, точно муха под лампочкой, или изучал изнанку век, или выражал что-то вполне конкретное, но за очками все равно было не различить, что именно. Вид этих черных стекляшек напомнил мне не к месту погребальный плач: “Ты пошто, смерть, совьим глазам смотреть даешь, а на сокольи глаза пятаки кладешь?”
– Мне ваш сосед, – я указал на стену, за которой, предположительно, находились приемная и кабинет Капитана, – о вас рассказывал. Вот я себе и позволил. Ищу, знаете ли, для квартиры гобелен.
Представиться потенциальным покупателем или заказчиком, подумалось мне, будет здесь наиболее удобным – почти наверняка окажешься желанным гостем. Художники ведь в этом смысле – в смысле внимания со стороны покупателей или заказчиков – по большей части люди небалованные. С другой стороны, а кем еще назваться? Не сантехником же.
– Размер? – Тон хозяина был несколько брезгливым.
– Что? – не сразу понял я.
– Какой размер?
– Ах да… Примерно два на полтора. – Я демонстративно задумался и уточнил: – Два – по горизонтали.
– Хотите готовый или по эскизу?
– А что, вы впрок плетете?
– Есть кое-что.
В мои планы не входил осмотр пыльных ковриков, поэтому я заявил:
– По эскизу. Там, знаете, должны быть жуки. Вы жуков изобразить сумеете?
– Каких жуков?
Кажется, мне удалось сбить его с толку.
– Спаривающихся – мне для спальни. Допустим, зернистых жужелиц. Вот, я вам образец принес…
Я извлек из кармана коробочку из-под фотопленки и двинулся к выпускнику училища барона Штиглица. Тот, в свою очередь, направился ко мне, оставив кружку с утихшей ложкой на подоконнике. Возле рамы с начатой шпалерой мы встретились, и хозяин, не снимая с гляделок свои чертовы очки, посмотрел под крышку. Что он мог там увидеть?
– Это, так сказать, натура, – пояснил я. – Но, если нужно, я готов представить фотографии или рисунки. Скажем, “Жуки России” Якобсона.
Разумеется, делать придется крупнее…
– Бестия какая! – потеплевшим голосом сказал хозяин, и губы его дрогнули в предвестии улыбки.
Я тут же понял, что был предубежден против этого прекрасного человека.
– Вы так находите? Не правда ли, он чуден? Из его сородичей в старом
Китае делали броши, подвески и другие украшения. Наравне с нефритом.
Брали надкрылья, оправляли в золото или…
Гобеленщик не дал мне договорить:
– Зверюга! Существо…
Столь верный тон с ходу могла взять только духовно богатая личность.
– Лапками-то как сучит, тараканище!
– Тараканы относятся к отряду Blattoptera, – добродушно пояснил я, – а это карабус, он из жесткокрылых – Coleoptera. Они, конечно, из одного подкласса, но родня не близкая, так что не стоит путать.
– Тарака-а-анище! – нараспев повторил упрямый очкарик. – Он, значит, должен спариваться…
– Ну как знаете. Только это все равно что вас ткачом назвать. Или еще хуже – пряхой. – Я был несколько разочарован.
– По мне хоть горшком назовите, только в печь не ставьте. Ладно, хотите с тараканами, сделаем с тараканами. – Ткач закрыл крышку и сунул было коробочку с жуком в карман зеленых джинсов, но я решительно его остановил:
– Нет-нет, жука я заберу. А вам пришлю изображение по почте. Дайте мне ваш электронный адрес. Натура бегает – с картинкой вам удобней будет.
Пока хозяин рассеянно искал клочок бумаги и ручку, я думал, как бы поизящнее от ковриков и “тараканищ” переключить беседу на Капитана или на что-то, что могло бы вывести разговор к теме вольных камней.
Тут заиграл полифонический Хачатурян – разумеется, “Танец с саблями” – и ткач, засуетившись в поисках источника сигнала, порскнул в угол, где выкопал из валявшейся на стуле джинсовой куртки мобильник.
– Да, кисуля. Да. Нет. Я поработаю еще немного. С черносливом?
С луком? И с брусничным соусом? Ай, умница! Нет-нет, недолго. Часа два. А что там у тебя за шум? Кто это говорит? Ты не одна? Кто у тебя?! Этот бабуин? Этот похотливый кролик? Опять? Я ведь предупреждал! Предупреждал?! А ты?! Какое радио?! Я что, батона-мать, не отличу?.. Ну да. Теперь, пожалуй, слышу. Поет.
Шевчук. Орел. Согласен. Зубр. Чертяка. Бивень. Хорошо. Ну все.
Целую, мусик. Да. Туда, туда и вот туда. Да. Нет. Все-все, кисуля.
Непременно. Жди.
“Вот реактивная натура! – подумал я. – С места в карьер – нулевая раскачка”. Похоже, в душе гобеленщика жизнь оставила раны, которые ныли в любую погоду. Мне не хотелось бы иметь такие.
Я вновь задумался, как быть. То есть как лучше вывернуть на нужную мне тему. В конце концов людям необходимо общение. У каждого на душе есть что-то такое, что он хотел бы высказать, – людям нужно кому-то
изливать душу. Некоторые с этой целью женятся (ревнивый гобеленщик, вроде, не из их числа), другие приглашают к себе гостей и принудительно одаривают их, угодивших в ловушку, сокровищами своего сердца, третьи нарочно ходят в парикмахерскую, чтобы поговорить с цирюльником. Я посмотрел на дикорастущую гриву хозяина – он тоже не из тех. Конечно, есть такие, кто пойманные впечатления и мысли сжигает в себе, точно мусор на свалке, но это счастливые люди – глаза их теплы, улыбки блаженны, а из ушей струится дым. Кроме того, в душе у них нет ран. Снова не тот случай.
На размышления, собственно, времени не было. Мне ничего не оставалось, как действовать по наитию.
Хозяин между тем отыскал лист бумаги и, написав на нем то, что требовалось, протянул мне. Я принял.
– Сосед ваш, Сергей Анатольевич, – я вновь указал на стену, за которой скрывался трикстер “Лемминкяйнен”, – сказал мне, что вы носите темные очки, потому что один глаз оставляете дома, чтобы всегда быть в курсе, чем занимается ваша жена. Теперь я вижу – он ошибся.
Ткач замер, судорожно сглотнул и позеленел, как ящерица хамелеон.
– А что еще сказал вам этот пидор?
– Почему пидор? – Право, я растерялся.
– Вы что, не видите, что он голубой?
– Нет, – признался я и схитрил: – Я дальтоник.
– Понятно. А у меня раздражение от дневного света. – Гобеленщик нашел во мне товарища по несчастью. – Без очков – резь, и глаза слезятся. Но я голубых за версту чую. Он ведь улыбается как?