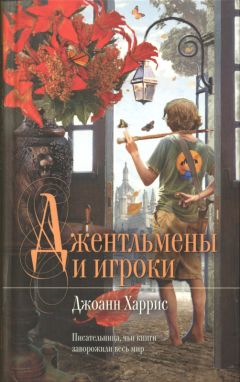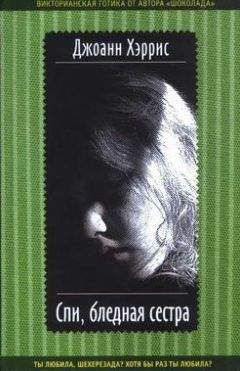И теперь я помогаю ему во всем: убираю в доме, стираю его одежду, даже заставляю бриться. Слушаюсь его и ухаживаю за ним. Мне позарез нужно, чтобы он сохранил работу — это мое единственное оружие против Шарон, мой билет в «Сент-Освальд», к Леону.
Леон. Странно, как одна одержимость перерастает в другую. Сначала «Сент-Освальд»: вызов, радость искусных ухищрений, желание принадлежать Школе, стремление стать чем-то большим, чем ребенок Шарон и Джона Страз. Теперь — просто Леон: быть с Леоном, знать его, обладать им, еще непонятно как. Почему меня так тянет к нему? Да, он привлекателен. Поначалу был добр, по-своему, небрежно принял меня в свой мир, дал силы отомстить Грубу, моему мучителю. А я — одинокое, ранимое, несчастное, слабое существо.
Но дело не в этом. В тот миг, когда он предстал передо мною, с челкой, падающей на глаза, и в обрезанном галстуке, свисающем, как высунутый язык, с мира спала завеса. Время разделилось на до-Леона и после-Леона, и все стало другим.
Большинство взрослых считают, будто чувства подростков несерьезны и все эти душераздирающие страсти — ярость, ненависть, смятение, ужас, безнадежность, отвергнутая любовь — лишь игра гормонов, тренировочный забег перед Настоящим, из этого вырастают. Это неверно. В тринадцать лет все серьезно, у всего острые края, о них можно порезаться. Некоторые наркотики способны вызвать подобный накал чувств, но возраст притупляет грани, приглушает краски и портит все рассудительностью, рациональностью и страхом. В тринадцать лет мне этого не требовалось. Было ясно, чего я хочу и что буду бороться за это насмерть с целеустремленностью подростка. Я не хочу в Париж. Чего бы это ни стоило, но я не уеду.
5
Школа для мальчиков «Сент-Освальд»
Понедельник, 25 октября
В целом вторая половина триместра началась убого. Октябрь был тревожным, срывал с деревьев золото и засыпал школьный двор конскими каштанами. Ветреная погода приводит мальчиков в возбужденное состояние, ветер и дождь означают, что мальчики в таком состоянии на перемене сидят в классе, а после случившегося, когда их оставили без присмотра, я не осмеливаюсь уйти даже на секунду. Так что Честли остался без перерывов, даже на чашку чая; от этого у меня дурное настроение, и я бросаюсь на всех, включая моих любимчиков, которым даже в худшие времена удавалось меня рассмешить.
В результате ребятки сидят тише воды, ниже травы, невзирая на ветер. Я оставил после уроков двоих четвероклассников за несданные работы, но больше не пришлось повышать голос. Наверное, они что-то чувствуют — запах озона перед грозой — и понимают, что сейчас не время для веселья.
Общая преподавательская, как я понимаю, оказалась ареной для множества мелких неприятных столкновений. Какие-то недоразумения по поводу аттестации, поломка компьютеров, ссора Грушинга и Скунса из-за новой программы по французскому языку. Роуч потерял кредитную карточку и обвиняет Джимми, что тот не запирает комнату отдыха после занятий; доктор Тайд объявил, что в этом триместре чай и кофе (до сих пор бесплатные) будут стоить три фунта семьдесят пять пенсов в неделю; а доктор Дивайн, ответственный за здоровье и безопасность, подал официальный запрос об установке детектора задымления в Среднем коридоре (в надежде изгнать меня из старой читальни, где я устроил себе курительный закуток).
Лучом света было решение Страннинга не возвращаться к вопросу о Пули и его порванном блейзере. Признаюсь, это меня слегка удивило: я ожидал, что у меня в ячейке уже лежит второе предупреждение; видимо, Боб либо забыл об этом происшествии, либо счел его ерундой, обычной в конце триместра, и решил дело замять.
Кроме того, есть более серьезные заботы, чем разорванная подкладка. По словам Китти, у мерзкого Пуста на выходных отобрали водительские права после какого-то инцидента в городе. Тут, конечно, не все так просто, но заточение в Колокольной башне приводит к тому, что основной поток слухов в преподавательской идет мимо меня и приходится полагаться на то, что можно узнать через моих мальчиков.
Мельница сплетен, однако, работает по-прежнему. Один источник сообщал, что Пуста арестовали по наводке. Другой утверждал, что Пуст превысил лимит потребления алкоголя в десять раз, но третий заявлял, что, когда его остановили, в машине оказалось несколько учеников «Сент-Освальда» и за рулем был один из них.
Надо сказать, что все это меня мало трогает. То и дело натыкаешься на таких учителей, как Пуст: надутый шут, умудрившийся одурачить систему и влезть в эту профессию, рассчитывая на непыльную работу и долгие каникулы. Как правило, долго они не задерживаются. Если с ними не разделаются мальчишки, то найдется что-то другое, и жизнь, глазом не моргнув, пойдет дальше своим чередом.
Но в течение дня я стал понимать — случилось что-то еще, помимо дорожных приключений Пуста. В соседнем классе, классе Джерри Грахфогеля, необычно шумно. Когда у меня не было урока, я сунул голову к ним в комнату и увидел, что третий «Ч», включая Коньмана, Джексона, Андертон-Пуллита и прочих безобразников, болтает, а Грахфогель сидит, уставившись в окно, с таким несчастным видом, что я подавил желание вмешаться и, не сказав ни слова, вернулся к себе.
Там меня ждал Крис Кин.
— Не оставлял ли я здесь свою записную книжку? — спросил он, когда я вошел. — Такую маленькую, красную. Я туда записываю все свои идеи.
Он слегка волновался, и я, вспомнив его наиболее убийственные комментарии, вполне понимал почему.
— Я нашел какую-то книжку в преподавательской в конце полутриместра, — сказал я. — Я думал, вы ее уже отыскали.
Кин покачал головой. Я подумал, не признаться ли, что я в нее заглянул, но заметил, что глаза у него бегают, и решил — лучше не стоит.
— Планы уроков? — предположил я с невинным видом.
— Не совсем, — ответил он.
— Спросите мисс Дерзи. Мы с ней в одной комнате. Может, она ее куда-нибудь убрала.
Мне показалось, что Кин забеспокоился. Что неудивительно, учитывая содержание этой обличительной книжечки. Все же он хладнокровно воспринял это известие и только сказал:
— Ничего страшного. Рано или поздно найдется.
Если подумать, то за последние недели вещи обрели привычку исчезать. Ручки, например, записная книжка Кина, кредитка Роуча. Такое иногда случается, и я могу понять, если пропадает бумажник, но не представляю, зачем кому-то понадобилась старая сент-освальдская кружка или мой классный журнал, который так и не нашелся, — разве что позлить меня, и если так, это более чем удалось. Хотел бы я знать, какие еще пустяковые вещицы исчезли в последние дни и могут ли эти исчезновения быть связаны друг с другом.
Я рассказал об этом Кину.
— Ну, это же школа, — сказал он. — В школах всегда пропадают вещи.
Может быть, подумал я, но не в «Сент-Освальде».
Выходя из комнаты, Кин насмешливо улыбнулся, словно я произнес это вслух.
Под конец занятий я вернулся в класс Грахфогеля, надеясь выяснить, чем так заняты его мысли. Джерри по-своему неплохой малый, пусть и не прирожденный педагог. Зато он настоящий ученый и страстно любит свой предмет, поэтому меня насторожил его болезненный вид. Но когда я в четыре часа заглянул в класс, его там не было. Тоже странно: обычно Джерри сидит здесь часами, либо у компьютеров, либо готовит свои бесконечные наглядные пособия. К тому же я впервые обнаружил, что он ушел, оставив комнату незапертой.
Некоторые из моих ребят все еще сидели за партами, что-то списывая с доски. Я не удивился, увидев работягу Андертон-Пуллита и Коньмана, который нарочно не поднял головы, но эта его самодовольная усмешечка означала, что он меня заметил.
— Здравствуйте, Коньман, — сказал я. — Мистер Грахфогель не сказал, вернется ли он?
— Нет, сэр, — бесцветным тоном ответил тот.
— Я думаю, он ушел, сэр, — сказал Андертон-Пуллит.
— Так. А ну-ка собирайте вещички, мальчики, и побыстрее. Я не хочу, чтобы кто-нибудь опоздал на автобус.
— Я не собираюсь на автобус, сэр, — произнес Коньман. — Меня заберет мать. Сейчас повсюду столько извращенцев.
Я стараюсь быть справедливым. Действительно стараюсь. И горжусь этим — своей справедливостью, здравостью суждений. Я могу быть грубым, но я всегда справедлив; я никогда не угрожаю, если не могу выполнить угрозу; я не даю обещаний, если не собираюсь их сдерживать. Мальчики это знают и уважают меня — когда имеешь дело со старым Квазом, то все честно и он свои эмоции оставит при себе. По крайней мере, я на это надеюсь. С возрастом я становлюсь все более сентиментальным, но не думаю, чтобы это как-то влияло на мою работу.
Однако в жизни любого учителя бывают случаи, когда объективность ему отказывает. Глядя на Коньмана с опущенной головой и бегающими глазками, я как раз вспомнил об этой ошибке. Я не доверяю Коньману: что-то в нем меня отталкивает. Конечно, нельзя себе этого позволять, но учитель тоже человек. У нас есть свои предпочтения, мы лишь должны избегать несправедливости. Я и стараюсь, но совершенно ясно, что в моей маленькой группе Коньман — паршивая овца, Иуда, Иона, тот, кто выходит за рамки, не отличает юмор от наглости, озорство от злобы. Надутый, избалованный, бледный типчик, который винит в своих недостатках кого угодно, только не себя. Но я веду себя с ним так же, как с остальными, даже стараюсь быть к нему более снисходительным, зная свое слабое место.