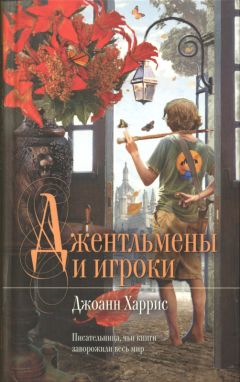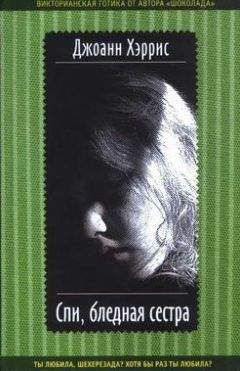Но сегодня в нем было нечто такое, что меня встревожило. Как будто он что-то знает, некий болезненный секрет, который одновременно и восхищает, и мучает его. Он и правда казался больным, несмотря на самодовольство: на бледном лице появилась новая россыпь прыщей, а на гладких каштановых волосах — жирный блеск. Тестостерон, скорее всего. И все же я не мог отделаться от мысли — мальчишка что-то знает. Будь это Сатклифф или Аллен-Джонс, информацию я бы уже получил — их достаточно спросить. Но с Коньманом…
— Что-то случилось на уроке мистера Грахфогеля?
— Что, сэр?
Его лицо было нарочито невыразительным.
— Я слышал крик.
— Это не я, сэр.
— Ну конечно, не вы.
Бесполезно. Коньман ничего не скажет. Пожав плечами, я покинул Колокольную башню и направился в кабинет кафедры языков, на первое заседание второй половины триместра. Грахфогель должен там быть, и, возможно, я успею с ним побеседовать. А Коньман подождет. По крайней мере, до завтра.
На заседании Грахфогель не появился. Все остальные пришли, и это окончательно убедило меня в том, что мой коллега заболел. Джерри никогда не пропускает заседаний кафедры, любит обучение без отрыва от производства, с энтузиазмом поет на общешкольных собраниях и всегда готовится к урокам. А сегодня его не было, и, когда я спросил об этом доктора Дивайна, он посмотрел на меня таким ледяным взглядом, что я тут же пожалел о своем вопросе. Наверное, все еще обижается из-за старого кабинета, и все же в его голосе прозвучало не просто недовольство; и на заседании я мрачно размышлял, чем мог рассердить этого старого идиота. В это трудно поверить, но он мне даже нравится, несмотря на свои костюмы и все прочее; он — одна из немногих констант в переменчивом мире, а их так не хватает.
Итак, заседание все тянулось; Грушинг и Скунс спорили о преимуществах разных экзаменационных комиссий, доктор Дивайн являл собою образец холодности и достоинства, Китти странным образом потускнела, Изабель полировала ногти, Джефф и Пенни внимали, словно Близняшки Бобси,[43] а Диана Дерзи наблюдала за происходящим так, словно заседание кафедры — увлекательнейшее зрелище на свете.
Когда заседание кончилось, уже стемнело и Школа была пуста. Даже уборщики ушли. Оставался только Джимми, который медленно и тщательно водил электрополотером по паркету Нижнего коридора.
— До свиданья, хозяин, — сказал он мне, когда я с ним поравнялся. — Вот и еще один сделан.
— Нужно, чтобы с тебя сняли часть работы, — заметил я. После увольнения Дуббса Джимми выполнял все обязанности смотрителя, а это нелегкая задача. — Когда новый приступает к работе?
— Через две недели, — ответил Джимми, улыбаясь до ушей. — Шаттлуорт его звать. Болеет за «Эвертон».[44] Ну да мы все равно поладим.
Я улыбнулся.
— Тебе эта работа не слишком нравилась.
— Нет, хозяин. — Джимми покачал головой. — Больно маетно.
Когда я дошел до школьной парковки, полил сильный дождь. Лига Наций уже отъехала. У Эрика машины вообще нет — у него плохое зрение, и, кроме того, он живет в двух шагах от Школы. Грушинг и Китти остались в кабинете, просматривая какие-то бумаги, — с тех пор, как жена Грушинга заболела, он все больше и больше нуждается в Китти. Изабель Тапи подправляла макияж — бог его знает, сколько времени на это уйдет, а доктор Дивайн уж точно не подвезет меня.
— Мисс Дерзи, может, вы…
— Конечно. Залезайте.
Я поблагодарил ее и уселся на переднее сиденье маленького «корсо». Я заметил, что машина, как и письменный стол, часто отражает внутренний мир владельца. У Грушинга — полный бардак. У Нэйшнов на бампере красуется наклейка «НЕ СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ, СЛЕДУЙ ЗА ИИСУСОМ». У Изабель на приборной доске — игрушечный медвежонок-оберег.
Машина Дианы, напротив, аккуратная, чистая и практичная. Никаких милых игрушек или забавных слоганов. Мне это нравится: признак упорядоченного ума. Будь у меня автомобиль, он был бы похож на пятьдесят девятую — сплошь дубовые панели и пыльные паучники.
Я так и сказал мисс Дерзи, и она рассмеялась.
— Мне это в голову не приходило. — Она свернула на главную дорогу. — Как собаки и хозяева.
— Или учитель и его кофейная кружка.
— Правда?
Видимо, мисс Дерзи никогда этого не замечала. Сама она пила из казенной кружки (белой с голубой полоской), их выдавали на кухне. У нее было на удивление мало причуд, свойственных молодым женщинам (предположительно, поскольку материала для сравнения у меня не слишком много), но это — часть ее очарования. Мне показалось, что она может сойтись с юным Кином — тоже на редкость хладнокровным для новичка, — но, когда я спросил, как она ладит с другими новенькими, мисс Дерзи лишь пожала плечами.
— Слишком деловые? — предположил я.
— Не в моем вкусе. Водят машину в пьяном виде, да еще с мальчиками. Глупо.
Что ж, с этим покончено: придурок Пуст здорово подпортил себе репутацию дурацкой выходкой в городе. Изи — очередной одноразовый Костюм; Тишенс того и гляди подаст заявление об уходе.
— А что вы думаете о Кине?
— Я почти не разговаривала с ним.
— А следовало бы. Он из местных. У меня такое ощущение, что он может оказаться в вашем вкусе.
Я говорил вам, что становлюсь сентиментальным. Это в общем-то не в моем характере, но мисс Дерзи каким-то образом пробуждает во мне этот настрой. Дракон-практикант, если мне вообще доводилось с таким сталкиваться (хотя и симпатичнее большинства Драконов, которых я видал), и нетрудно представить, какой она будет через тридцать или сорок лет — этакая Маргарет Рутерфорд из «Лучших дней жизни»,[45] разве что постройнее, но с таким же неиссякаемым чувством юмора.
Очень уж легко засасывает «Сент-Освальд», здесь — другие законы. Один из них — Время, которое течет намного быстрее, чем во внешнем мире. Посмотрите на меня: скоро «сотня», но, когда я смотрю в зеркало, я вижу того же мальчишку, которым всегда и был, — теперь уже поседевшего, с мешками под глазами и явными, слегка потускневшими замашками классного хохмача.
Я попытался, хоть и неудачно, изложить кое-что Диане Дерзи. Но мы уже подъезжали; дождь кончился; я попросил высадить меня в конце Дог-лейн, сообщив, что хочу проверить забор, не появлялись ли снова мастера граффити.
— Я пойду с вами. — Она притормозила у тротуара.
— Не нужно, — отговаривал я, но она настаивала, и я вдруг понял, что она просто беспокоится обо мне — мысль отрезвляющая, но все-таки добрая.
И вероятно, она была права, потому что как только мы вошли в проулок, то увидели его — такой огромный, что не заметить было невозможно, — не просто граффити, а мой портрет во всю стену, с усиками и свастикой, выполненный разноцветными красками из баллончиков.
Секунд тридцать мы стояли, вытаращив глаза. Краска едва высохла. А затем меня охватила ярость — запредельная, лишающая дара речи. Такое случалось со мной раза три-четыре за всю жизнь. Я высказался кратко, воспользовавшись крепким англо-саксонским словцом вместо изысков Lingua latina. Потому что теперь я знал виновника, и у меня не осталось ни тени сомнения.
Во-первых, в тени под забором я обнаружил маленький тонкий предмет, во-вторых, распознал стиль. В том же стиле была нарисована карикатура, которую я снял с доски объявлений третьего «Ч», карикатура, как я давно подозревал, состряпанная Колином Коньманом.
— Коньман? — отозвалась мисс Дерзи. — Но он же сущий мышонок.
Мышонок не мышонок, но теперь я все знал. Кроме того, мальчишка имеет на меня зуб, он ненавидит меня, а заручившись поддержкой мамаши, Главного, газет и бог знает каких еще недовольных, обнаглел и пакостит исподтишка. Я поднял тонкий предмет, лежавший у забора. Невидимый палец снова ткнул меня, кровь запульсирешала, и ярость, словно смертельный яд, обесцветила мир вокруг меня.
— Мистер Честли, вам нехорошо? — встревожилась Диана.
— Нет, все прекрасно. — Меня еще трясло, но я вполне соображал и усмирил взбесившегося во мне дикаря, — Посмотрите-ка на это.
— Это ручка.
— Не просто ручка.
Я не мог не узнать ее; слишком долго искал, пока она не обнаружилась в тайнике у смотрителя. Подарок Колину Коньману к бар-мицве, провалиться мне на этом месте, пятьсот с лишним фунтов, если верить его матери, и очень кстати украшена его инициалами — «КК» — для пущей уверенности.
6
Вторник, 26 октября
С этой ручкой тонко сработано. «Монблан», из тех, что подешевле, но все равно не моего пошиба. Сейчас это не слишком заметно: мой синтетический блеск сменился гладкой непроницаемой обшивкой изысканных манер. Одна из множества черт, заимствованных у Леона, вместе с Ницше и любовью к лимонной водке. Что до Леона, ему всегда нравились мои фрески: сам он был никудышный художник, и моя способность рисовать столь точные портреты поражала его.