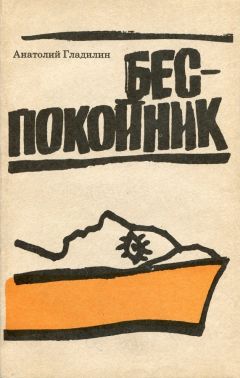— Чего барабанишь, хулиган?
— Почему не работаете?
— Я ушел на базу, ясно?
— Откройте, милиция.
Сразу отодвинули фанеру. В окошечке появляется рожа, расколотая надвое подобострастной улыбкой.
— Бутылки принимаете?
— Нет тары. Но для начальства найдем.
...И никаких документов не спрашивает. Мгновенно почуял, что я, действительно, милиция, начальство. Как, почему? Загадка.
— Вы давно на этом месте?
— С девяти утра, начальник, как положено.
— Работаете давно на этом пункте?
— Понял, начальник, понял. Года четыре, а что?
— Клиентов своих помните?
— Почетных алкоголиков? Конечно.
— Посмотрите, пожалуйста, фотографию. Узнаете?
— Этот? Личность известная. Как начало месяца, он тут как тут.
— Что вы о нем скажете?
— Дебошир, скандалист. Однажды жалобу хотел написать, будто я посуду не принимаю. А куда мне ее класть, когда тары нет? Чуть стекло не разбил.
— Он случайно вам сумку не предлагал купить?
— Сумку? Нет. Хотя в позапрошлом месяце, точно, было такое. Бери, говорит, отец, за трешку, опохмелиться хочется, душа горит.
— Он был один?
— Не помню. Их много, это я один. За всеми не уследишь. Да еще бутылки с отбитыми горлышками подсовывают.
— А сумка хорошая?
— Да вроде ничего, почти что новая. Но у нас не скупка. Мы неположенных вещей не берем.
— Спасибо, до свидания.
— Эй, начальник, так у него можно принимать бутылки?
...Вот сволочь, боюсь, что теперь над моим Пшуковым поизмывается.
Правда, дела принимают такой оборот, что, возможно, Анатолий Петрович появится тут отнюдь не скоро.
* * *
«Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...»
У нашей милиции два врага. Первый — это «кто-то», который «кое-где, порой». Его мы стараемся выявить и схватить за шкирку. Но чем больше мы усердствуем, тем больше растет наш второй враг — статистика преступности, которая, по идее, должна уменьшаться в стране победившего социализма. Не всегда понятно, кто из этих двух врагов для нас опаснее.
В МУРе, при известной ловкости рук, еще как-то удается свести концы с концами, а ребята из ОБХСС волком воют. Все, молчу. Если и есть у милиции государственная тайна, которую надо беречь как зеницу ока, то это статистика (разумеется, не официальная, а фактическая). Кому-то, который «кое-где у нас порой», так понравилась государственная собственность, что он тащит все, что плохо лежит. А хорошо у нас лежит только один товарищ в Мавзолее.
Чур меня, изыди, сатана! Я не лезу в политику. И хватит об этом.
Лично я хочу жить честно. Я закончил юридический факультет Московского университета. У меня был выбор: прокуратура, адвокатура и тихая работа юрконсультантом в какой-нибудь шараге.
Тихая работа мне не по нутру. Пока не тот возраст. Конечно, кто-то должен отстаивать интересы родной организации от происков соревнующихся или смежных. Но ведь потом приходится доказывать, что и твоя контора ограбила своих смежников (сорвала поставки, нарушила сроки) на совершенно «законных» основаниях.
Адвокатура? К голосу защитника прислушиваются лишь тогда, когда предварительное следствие велось неквалифицированно или судья допустил грубейшие процессуальные нарушения. Но обычно роль адвоката сводится к жалостливому оплакиванию судьбы своего подзащитного и мольбе о снисхождении. Ведь против подзащитного — государственное обвинение. Наше государство никогда не ошибается.
Прокуратура — прибежище для воинствующих идиотов. Возможно, это я такой везунок, но, сколько я ни присутствовал на судебных процессах, мне всегда было стыдно за прокурора. Его речь — это неуклюжий подбор фактов, перемежающихся с примитивными тяжеловесными нравоучениями.
Человека, наслушавшегося подобных сентенций, так и тянет на уголовщину, хотя бы ради протеста.
Верю, в прокуратуре есть умные, дельные работники, но, в принципе, зачем государственному обвинителю ум, знание психологии и прочее, когда и так судьи почтительно внемлют каждому его слову? Ведь он вещает от имени государства. У нас с государством не спорят.
И опять меня заносит в политику! Изыди, сатана!
Скажем так. Каково бы ни было политическое устройство страны, но во все времена, при всех режимах воровство, грабеж, убийства считались злом, а люди, которые боролись с этими преступниками, делали добро.
Я пошел в МУР потому, что хотел быть честным, хотел делать добро. И у меня есть профессиональное честолюбие, и свою работу я стараюсь выполнять добросовестно.
Вполне допускаю, что я не Бог весть какой ценный сотрудник, однако пока ни разу не вставал вопрос о моем увольнении, хотя для МУРа я белая ворона. Я не член партии. Сначала я был комсомольцем и даже, по глупости, членом бюро, поэтому я еще как-то соответствовал должности. Потом... Потом было некуда деваться, но тут, на счастье, случился мой бракоразводный процесс. Аморалка в личной жизни. Я сумел это подать соответствующе, и на меня махнули рукой.
Правда, мне закрыт путь наверх, да я туда и не стремлюсь. Если повезет, так и доживу до пенсии старшим лейтенантом, старшим опером.
Анатолий Петрович Пшуков красил полки на кухне. Его сынишка держал банки с краской, усердно сопел — словом, был при деле. Жена Пшукова суетилась с кастрюлями и изредка ласково спрашивала: «Толенька, не поставить ли чаек?» Я, заверив хозяина, что мой разговор не срочный, сидел в комнате, листал журнал «Работница» (с вырванной статьей о семье Крашенинниковых) и чувствовал некоторую неловкость. Действительно, у людей мир и покой, они заняты хозяйством, а ты влезаешь в чужой дом и должен задавать наводящие вопросы, ловить, уличать. Вообще-то приятно, когда запутываешь преступника, и он в твоих руках, но сейчас, пожалуй, я был бы рад, если бы Пшуков рассказал мне нечто такое, что разом бы сняло с него подозрения, и мы, поговорив напоследок о шансах «Динамо» и «Спартака», расстались навсегда.
— Ну вот, я свободен, — сказал Анатолий Петрович.
Я замялся.
— Нам бы надо наедине.
— Зиночка, поужинайте в комнате, и уложи Витьку спать. У товарища дело.
Мы произвели рокировку, и на кухне мне сразу бросилась в глаза бутылка из-под «Виньяка», наполовину наполненная коричневой жидкостью. Невольно улыбнувшись, я поднял бутылку.
— К сожалению, угощать нечем, — строго сказал Анатолий Петрович. — Это клей. Спиртного не держим.
— Не пьете?
— Болею. Раз в месяц. Нужно бы лечь в больницу, говорят, помогает. Но это надолго, а кто будет их кормить? — Хозяин кивнул на закрытую дверь своей комнаты. — Стыдно перед пацаном. Каждый раз думаю: вот отмучаюсь и завяжу.
— Любопытная бутылочка. Откуда?
— Шут ее знает. Зинка хотела выбросить, но я под клей приспособил. Пробочка...
...Вот тут бы и сказать, что такая бутылка была в сумке у Бурдовой. Однако я взглянул в глаза Пшукову и промолчал. А он словно прочел мои мысли.
— Сосед приходил, тоже этой бутылкой интересовался.
— Какой сосед?
— Общественник наш, Семен Николаич.
...Самое время спросить про письмо. Но я почему-то не спросил. А Пшуков продолжал:
— Когда-то Приколото был моим начальником, да и сейчас еще вальяжный мужчина, с характером.
— Анатолий Петрович, хочу у вас узнать, как у специалиста. Легко открыть дверь тридцать третьей квартиры?
— Ага. Вы, значит, здесь из-за Нины Петровны? Ясненько. Открыть — дело нехитрое. Я, например, открою любую.
...И тут я совершил ошибку.
— Вас видели, когда вы пытались продать приемщику стеклопосуды сумку Бурдовой.
...Понимаете, нельзя было так сразу. Во-первых, Пшуков мог все начисто отрицать: мол, ошибся приемщик, а я ничего не знаю. Во-вторых, это могла быть сумка самого Пшукова. Он унес ее из дома, и жена бы это подтвердила. Показания приемщика — мой главный козырь, его бы приберечь напоследок.
Но Анатолий Петрович сидел красный, молчал и вдруг брякнул:
— Точно. Значит, я взял.
Я чуть не подскочил. Как все просто! «Спокойно, Вадик, — сказал я себе, — начнем сызнова».
— Что вы взяли?
— Да сумку у Бурдовой. Об этом весь дом судачит. Я-то думал, мое дело сторона, но Кулик — он за стенкой живет — недавно мне говорит: видел я тебя с Бурдихиной сумкой у ларька, больно ты опохмелиться хотел. Я, конечно, Кулику не поверил, не ладим мы. Из-за конфорок на кухне лаемся. Он готов любую напраслину на меня возвести. Но раз люди подтверждают — точно.
— Вы заходили к Бурдовой?
— Утром я у нее раковину чинил и был уже на взводе. Чувствовал, начинается мое путешествие. Тогда, наверно, и на сумку глаз положил.
— А как дверь открыли, помните?
— Раньше, когда не был запойным, все помнил, контролировал себя. А теперь — «бой в Крыму, все в дыму...»