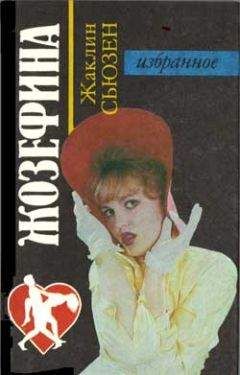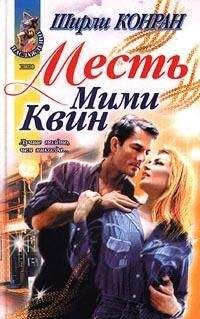— Невежа! — говорит Стефани. — Подожди минуту, горит, что ли.
Лизон ничего не говорит. Она подходит прямо ко мне, безмятежная, такая красивая, роняет книжки на столик, бросает мне на шею свои обнаженные руки, благоухающие юностью, и взасос целует прямо в губы одним из тех поцелуев, которые в крупном плане на многих метрах пленки поднимают напряжение и благоприятствуют сближениям в темном зале.
Шатен реагирует по-своему. Он чувствует себя обязанным сострить:
— Мне кажется, тут многовато лишних….
Стефани не согласна:
— Почему? Мы пришли отпраздновать воскрешенье Лизон, и мы его отпразднуем. Ты заплатишь за шампанское, Эмманюэль?
Блондин молчит. За него говорят его глаза.
Лизон неторопливо отнимает губы, попутно оставляя легкий поцелуй на моем носу, обнимает меня за талию и, положив голову мне на плечо, спокойно обращается к веселой компании:
— Ладно. Пошутили, и будет. Теперь попрощаемся. Если только вы несговорились меня достать.В таком случае предупреждаю, мы больше не друзья.
— Пф… — произносит Стефани.
— Ну?.. — говорит Лизон.
Лизон подходит к темному шатену, берет его за плечи, звонко чмокает в обе щеки. Славный малый, он делает то же самое. Очередь блондина. Я предчувствую, что это будет труднее. Когда она кладет ему руки на плечи, он хватает ее за запястья, откинув назад голову, чтобы избежать дружеских поцелуев. Трагически смотрит на нее и шепчет:
— Ты уверена, Лизон?
Она пожимает плечами:
— Ты это хорошо знаешь.
— Что особенного ты в нем нашла, на самом деле?
— Чего нет в тебе? Ничего. Сама не знаю. Он — это он. Сама ничего не могу с этим поделать. Пусти меня, Жан-Люк.
Она хочет высвободиться. Он не отпускает ее. Он больше не знает, что сказать, он понял, что ему больше нечего сказать, он только смотрит на нее, и в его взгляде все, что он чувствует. Она тоже смотрит ему прямо в глаза, печальная и взволнованная. Неумолимая.
Он не может смириться. Как я его понимаю!
— Ничего нельзя изменить?
Она качает головой. Стефани хихикает:
— У тебя нет никаких шансов, Жан-Люк. Он эксперт по сексу. За ним не угнаться.
Звонкая оплеуха служит ей ответом. Стефани не может опомниться. Ягненок превратился в льва.
Затруднительная ситуация. Что делать, когда получил оплеуху, которую вполне заслужил? Вернуть ее? Девчонки в таком случае сразу же вцепляются друг другу в волосы. Очень вульгарно, очень, очень. Заплакать? Только не Стефани. Высокомерно проигнорировать, сделать вид, как будто ничего не произошло? Ремарка та же, что была выше. Громко рассмеяться и пропеть: "А мне не больно! Тра-ля-ля?" Приблизительно это решение выбирает Стефани. Она признает:
— Я это вполне заслужила. Все же необязательно бить так сильно. Думаю, что у меня вылетела пломба. Ладно, ребята, смываемся.
Она тянет Жан-Люка за рукав куртки. Он дает себя увести и, уходя, бросает на меня взгляд скорее непонимающий, чем ненавидящий. Я стараюсь придать себе вид человека, знающего, что не заслуживает своего счастья, но который тем не менее не собирается выпускать добычу… И черт подери, я вовсе не собираюсь стыдиться того, что я именно тот, кого она любит! Стыдиться моих тридцати пяти лет! Теперь моя очередь показать, на что я способен. Я обнимаю мою Лизон, одна рука на талии, другая на затылке, запрокидываю ее, как в танго, аргентинец до мозга костей, все как полагается, пам, пам, она подчиняется, гибкая и покорная моей руке, настоящее счастье и вот мы опять погрузились во всепоглощающий поцелуй века, второй раз.
Уголком глаза я вижу, как Стефани уводит своих горячих жеребцов, похоже, прямиком на конюшню, что она будет с ними делать, этого я знать не хочу. Она не может сдержаться, чтобы не лягнуть напоследок, прежде чем опустится занавес:
— Желаю успеха, влюбленные! Побереги его, действуй осторожно, он еще может кому-нибудь пригодиться!
Я ничего не могу ответить, рот у меня занят, но я яростно думаю "мерзавка!", "змея!", так яростно, что Лизон слышит это какой-то частью мозга. Когда, очень много времени спустя, наши губы разъединяются, она говорит:
— Какое им дело до нас, спрашивается?
— Он любит тебя?
— Да, Эмманюэль. Он любит меня. Ему очень больно.
— Давно?
— Очень давно.
— А ты?
— Как ты можешь спрашивать?
— В этом не было бы ничего сверхъестественного. Я же люблю Элоди…
— Не говоря уже о других!
— Поэтому я могу понять, когда любят двоих и даже нескольких.
— Ты — это ты. А я устроена по-другому.
— Но ты любила его? Принадлежала ему?
Она смеется.
— "Принадлежала ему"! Это из Ламартина! Ну да, конечно. Ты же не думаешь, что получил меня девственной? Я любила его. Лучше сказать: я была влюблена. Он тоже не был первым. Вспомни, что я сказала, когда пришла к тебе.
— "Я хочу, чтобы вы со мной занялись любовью".
— Этого тебе недостаточно? Я же сейчас здесь. И в твоихобъятиях.
Мы хорошо поработали. Суччивор решает, что мы заслужили небольшую передышку, чтобы выпить кофе. Мэтр поднимает глаза от чашки и, расплывшись в улыбке, объявляет:
— Я очень доволен вами.
Весь поглощенный созерцанием "черного напитка, милого сердцу мыслителей", я спрашиваю:
— Вы хотите повысить мне ставку?
— Какой вы скорый! Но… Подождем, какой прием окажет публика этому произведению… Хе, хе… Кстати…
Я настораживаюсь.
— Кстати, вы видитесь с нашим общим другом, мадам Брантом?
Что-то говорит мне, что здесь надо быть осторожным. Я уклончиво отвечаю:
— Случается.
Не считаю необходимым сообщать ему, что мы встречаемся у нее два раза в неделю, как по расписанию… На самом деле я вдруг осознаю, что мы теперь уже почти не делаем вылазок на природу, на лоно мха и папоротников. Она много работает последнее время. Я чувствую, что она устала, нервничает, у нее много забот… Я сказал бы, что она измучена. Мне случалось задавать ей вопросы, беспокоясь за ее здоровье… Она дает уклончивые ответы, всячески старается избежать расспросов. Однажды я видел, как две большие слезы повисли на концах ее ресниц, затем поползли по щекам. Я их выпил. Она сжала меня в своих объятиях, словно боясь потерять. Я люблю ее все больше и больше. Без конца открываю все новые и новые интимные черточки, которые заставляют меня терять голову при одном воспоминании о ней. Мне случается задавать себе вопрос, кого же я люблю больше. Разумеется, всегда ту, в чьих объятиях нахожусь. Что не мешает мне одновременно думать о другой. О, обнимать их обеих вместе… Я не пресыщенный пошляк. Моя мечта — это мечта о любви и о благоговении. Ничего от коммивояжера, который купил себе двух проституток зараз и восседает посередине с сигарой во рту. Иногда я с ужасом воображаю, что бы делал, потеряй я ту или другую. И быстро переключаюсь на иные мысли…
Суччивор опускает меня на землю:
— Мадам Брантом очень хвалила вас. Должен сказать, что оправданно. У меня никогда не было такого ценного сотрудника, как вы.
Он вздыхает:
— Однажды вы покинете дядюшку Суччивора, чтобы летать самостоятельно, это совершенно нормально.
Я ставлю вопрос ребром:
— Почему бы не подписать рукопись обоим? Тогда я вас не покину.
Он поглаживает подбородок.
— Об этом даже не стоит говорить. Не из-за мелкого тщеславия, не думайте.
Увидев мою улыбку, говорящую "все же не без этого!", он поправляется:
— Не только из-за мелкого тщеславия. Конечно, я, так же как и любой другой, чувствителен к восхищению в глазах женщин, к дифирамбам критиков…
— … к цифре гонорара.
— И это тоже. Почему бы и нет? Деньги — материализация успеха. Но, прошу вас, не прерывайте меня. Вы спросили меня, почему я упорствую в нежелании присоединить ваше имя к своему на обложках моих… наших книг, если хотите.
Он делает паузу, смыкает кончики пальцев, подобно епископу, который обдумывает достойный и даже поучительный ответ на вопрос, почему его застали нагишом в борделе. Наконец он его находит:
— Видите ли, публика такова, какова она есть. У нее есть потребность восхищаться, я сказал бы, боготворить. Ей нужны кумиры. О, я согласен с вами, писатель, каким бы знаменитым он ни был, все же остается в категории кумиров с ограниченной славой. Это не певец, не боксер, не автогонщик. Однако механизм остается тем же: у кумира не бывает двух голов. В нашей сфере, по крайней мере. Даже коллективный идол: футбольный клуб или рок-группа, имеет свое имя, единственное, концентрирующее на себе всю славу. Говорят "Пари-Сен-Жермен", не перечисляя фамилии всех одиннадцати игроков. Одно название, оно звучит. Звенит. Оно скандируется. Оно на слуху и на виду, как цвета герба. Двойная фамилия — это слишком длинно. И даже если ее запоминают, ее не скандируют.
Я пользуюсь тем, что он переводит дух, чтобы вставить: